Вообще говоря такую тему нужно было писать не в топике «Поговорим о жизни», а в топике «Поговорим о смерти». Но поскольку между понятиями «жизнь» и «смерть» всего одна тонкая нить, то примем эту условность.
Эвтаназия. Что это? ( для тех, кто не знает)
Допустим, человек более раком. Он обречен. Лежит в больнице, в реанимации. Ему очень плохо, все болит. Он мучается, страдает. Знает, что скоро умрет, но как скоро не знает ни он, ни врачи. И ему уже на все по…он хочет лишь скорее избавиться от этих мук. Просит врачей помочь ему. Последние делают умирающему « смертельный» укол, вследствие чего наступает летальный исход.
Вот пожалуй это и есть эвтаназия.
В нашей стране она запрещена. Ее считают преступлением( убийством). И если врачей уличают в подобном деянии, то заводят уголовное дело со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Действительно такую « процедуру» можно обличить убийством. Ведь может случиться так, что больному специально поставят укол в корыстных целях, и фиг потом кому докажешь, что это была не эвтаназия. Здесь получается загвоздочка, но она , пожалуй, не единственная в этом вопросе, впрочем, как и сам вопрос достаточно проблемен.
Но вот и запрещают…
А в это время в больницах сотни людей мучаются, умирая, хотя могли бы возможно избавиться от страданий…
Я обо все этом уже давно наслышана. А поводом написать сюда стала недавно просмотренная мною программа, посвященная этой проблеме.
Я считаю, что этот вид медицинской деятельности нужно узаконить, дабы избавить людей от их и без того нелегкой участи.
А как вы думаете?
Если бы вы были врачом, то взяли бы на себя такую ответственность?.
Эвтаназия: убийство во имя спасения?
1, 2
Облик нежный, стан твой стройный –Дьявол во плоти. Женщина опять ты встала на моем пути . И рассудок помутился. Боже Упаси. Нет никто меня не сможет от тебя спасти….Ты, Ты, Ты – Дьявол во плоти……
-

Дрянь - постоялец
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср 2.06.2004, 0:11
была бы врачом - не взяла бы...
была бы на месте больного - хотела бы, чтоб это сделали....
но... при этом возникает вопрос... этот срок неизвестен... и эти последнии мгновения нужно ЖИТЬ!!! как позволяют средства, возможности, окружающие и т.д...
а вдруг больной проживёт ни год и ни два?
мало ли...
вопрос очень широкий...
и ответа нет на него, я думаю, точного!
даже я в точности не знаю.... как бы и чтобы.. окажись я.. на месте...
была бы на месте больного - хотела бы, чтоб это сделали....
но... при этом возникает вопрос... этот срок неизвестен... и эти последнии мгновения нужно ЖИТЬ!!! как позволяют средства, возможности, окружающие и т.д...
а вдруг больной проживёт ни год и ни два?
мало ли...
вопрос очень широкий...
и ответа нет на него, я думаю, точного!
даже я в точности не знаю.... как бы и чтобы.. окажись я.. на месте...
Врагов не следует стыдиться
И опускать в бессилье рук
Всегда, чем голосистей птица,
Тем больше хищников вокруг.
Глаз на Аватарке - МОЙ! Он не нарисован!!!
И опускать в бессилье рук
Всегда, чем голосистей птица,
Тем больше хищников вокруг.
Глаз на Аватарке - МОЙ! Он не нарисован!!!
-

АНАБЕЛЬ - Виртуальная Галлюцинация
- Сообщения: 1322
- Зарегистрирован: Вт 15.04.2003, 22:46
- Откуда: Москва
Для меня ответ одназначен: если человек хочет умереть - не мешай ему. Есть страны, в которых эвтаназия узаконена. Я думаю - это правильно. кто-то скажет - жестоко, но разве не более жестоко позволять людям и их родным мучиться? В конце-концов, у нас есть право на жизнь, право на труд, право на отдых, а как же право на смерть? На простую и тихую смерть без боли и мучений? Хочеться перефразировать Булгакова: "И да воздастся каждому.... по желанию его..". Просто необходимо, чтобы предварительно с каждым таким человеком проводил беседу опытный психолог, дабы предотвратить попытки подростков к самоубиству ( те, о которых потом вспоминаешь, как о чем-то глупом).
Но никто не в праве отказать человеку, просящему о смерти. Хотя, лучше, чтобы в этом людям помогали не врачи, а они сами. скажем, выдавать им таблетки специальные. Ведь врачи - тоже люди, а подобные действия несут очень большую моральную нагрузку.
Дайте людям свободу. Позвольте умереть тем, кто хочет этого. Дайте жить тем, кто стремиться.
После смерти нет ничего. Только покой. Даруйте его людям...
Но никто не в праве отказать человеку, просящему о смерти. Хотя, лучше, чтобы в этом людям помогали не врачи, а они сами. скажем, выдавать им таблетки специальные. Ведь врачи - тоже люди, а подобные действия несут очень большую моральную нагрузку.
Дайте людям свободу. Позвольте умереть тем, кто хочет этого. Дайте жить тем, кто стремиться.
После смерти нет ничего. Только покой. Даруйте его людям...
"Всё должно быть по-честному — или не быть вообще. Потому-то ты сейчас и стоишь на краю, а я, которая предпочла верного врага лживому другу, всего лишь слегка ему помогаю. Совсем чуть-чуть. Но для победы порой достаточно и этого... "
(c) О. Громыко
(c) О. Громыко
-

Elka - постоялец
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: Чт 15.07.2004, 7:49
- Откуда: РПА
АНАБЕЛЬ,
Короче говоря…..почти во всех случаях ситуация так и складывается…
Человек отвечает что если бы был врачом, то не согласился, а если бы больным, то попросил…
И все это исходит издалека времен…это такая природа людей… « брать, принимать» что-то им присуще…а «отдавать» представляет сложность..
Так же как….помощи попросит любой в ней нуждающийся, а поможет не каждый….
Быть может это и нормально…
На самом деле в таких ситуациях нет шанса прожить даже год или два…..срок исчисляется месяцами….и как правило не помогают уже ни лекарства…ни что бы то ни было….
Вот возьми в расчет лейкемию( рак крови)…из 400 заболевших детей выживает лишь 1, и то при очень дорогостоящей операции….а если у тебя на нее нет денег, то никакая высшая сила тебе не поможет….такие дети в последние месяцы жизни очень мучаются...у них нет шанса….
Короче говоря…..почти во всех случаях ситуация так и складывается…
Человек отвечает что если бы был врачом, то не согласился, а если бы больным, то попросил…
И все это исходит издалека времен…это такая природа людей… « брать, принимать» что-то им присуще…а «отдавать» представляет сложность..
Так же как….помощи попросит любой в ней нуждающийся, а поможет не каждый….
Быть может это и нормально…
На самом деле в таких ситуациях нет шанса прожить даже год или два…..срок исчисляется месяцами….и как правило не помогают уже ни лекарства…ни что бы то ни было….
Вот возьми в расчет лейкемию( рак крови)…из 400 заболевших детей выживает лишь 1, и то при очень дорогостоящей операции….а если у тебя на нее нет денег, то никакая высшая сила тебе не поможет….такие дети в последние месяцы жизни очень мучаются...у них нет шанса….
Облик нежный, стан твой стройный –Дьявол во плоти. Женщина опять ты встала на моем пути . И рассудок помутился. Боже Упаси. Нет никто меня не сможет от тебя спасти….Ты, Ты, Ты – Дьявол во плоти……
-

Дрянь - постоялец
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср 2.06.2004, 0:11
Елочка я с тобой согласна и смотрю на эту проблему в первую очередь из психологического интереса)))
И в данной ситуации я бы добавила еще одну цитату все того же Булгакова…все так же перефразированную …и олицетворяющую врачей
« Они та сила, что совершая « зло» все ж совершают благо…»
а насчет того, что бы они сами…быть может те , кто не парализован могли бы это сами делать, а те кто обездвижен….как им?.без врачей не обойтись…
И в данной ситуации я бы добавила еще одну цитату все того же Булгакова…все так же перефразированную …и олицетворяющую врачей
« Они та сила, что совершая « зло» все ж совершают благо…»
а насчет того, что бы они сами…быть может те , кто не парализован могли бы это сами делать, а те кто обездвижен….как им?.без врачей не обойтись…
Облик нежный, стан твой стройный –Дьявол во плоти. Женщина опять ты встала на моем пути . И рассудок помутился. Боже Упаси. Нет никто меня не сможет от тебя спасти….Ты, Ты, Ты – Дьявол во плоти……
-

Дрянь - постоялец
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср 2.06.2004, 0:11
В принципе евтаназия вешь хорошая, при нынешнем перенаселении, да не даст людям портить генофонд. С другой стороны, если узаконить, посчитайте, чколько суицидетнов и лиц девиантного положения обраться к вам, чтобы "легально" покончить с жизнью?
А теперь включим мой нелюбимый гумманизм. Человек просит о сметри - надо это ему дать? А нет, мы ему будем устраивать праздники, устраивать встречи со знаменитостями и прочая жалеющая белеберда. Мне смешно и бесит акция цветные книжки для слепых детей!
"Брать, отдавать..." Это проблема всего общества, отдать приказ хочет каждый, а вот принять его не каждый сможет. Большинство врачей, давших клятву Гиппократа, стремятся дать "жизнь" человеку, и их ничто не остановит. Как они на Хусейном издевались: мозг мёртв, но мы поддерживаем его жизнедеятельность. Просто жуть, ни в небо улететь, ни с телом простится, как в каркасе гниёшь.
Вообщем итог моих размышлений, иди он на гумманизм с лозунгами:"И да воздастся каждому.... по желанию его.." Пускай остаётся евтаназия нелегальной, смертей и так хватает.
P.S.: Зло игнорирует Горе.
А теперь включим мой нелюбимый гумманизм. Человек просит о сметри - надо это ему дать? А нет, мы ему будем устраивать праздники, устраивать встречи со знаменитостями и прочая жалеющая белеберда. Мне смешно и бесит акция цветные книжки для слепых детей!
"Брать, отдавать..." Это проблема всего общества, отдать приказ хочет каждый, а вот принять его не каждый сможет. Большинство врачей, давших клятву Гиппократа, стремятся дать "жизнь" человеку, и их ничто не остановит. Как они на Хусейном издевались: мозг мёртв, но мы поддерживаем его жизнедеятельность. Просто жуть, ни в небо улететь, ни с телом простится, как в каркасе гниёшь.
Вообщем итог моих размышлений, иди он на гумманизм с лозунгами:"И да воздастся каждому.... по желанию его.." Пускай остаётся евтаназия нелегальной, смертей и так хватает.
P.S.: Зло игнорирует Горе.
-

InCorpoReal - постоялец
- Сообщения: 522
- Зарегистрирован: Сб 28.02.2004, 7:23
- Откуда: Иркутск-Москва-Иркутск
Я полностью поддерживаю эвтаназию....на мой взгляд если человек рождается инвалидом,дауном,психом,то его нужно просто умерщвлять...так делали в Древнем Риме,вы скажите,что они были дикари..а вот и нет...это были люди,которые постороили водопровод,их нормативные акты до сих пор ставятся в пример нынешним...Зачем жить у мучиться и мучить окружающих...тем более человек не принесёт никакой пользы,сплошные затраты,страдания...а другие ещё и беды(к примеру если псих,то человек не отвечает за свои действия и поступки)...Гуманность хороша,но от неё болит душа...всему есть предел...
Мои работы:
http://sexyirk.ru - Сексуальный Иркутск
http://dimasirkutsk.narod.ru -Иркутский сайт знакомств и общения
Не бойся своих желаний,лучше подумай о моих!
http://sexyirk.ru - Сексуальный Иркутск
http://dimasirkutsk.narod.ru -Иркутский сайт знакомств и общения
Не бойся своих желаний,лучше подумай о моих!
-

sektor - ангел секса
- Сообщения: 1206
- Зарегистрирован: Вс 6.06.2004, 15:25
- Откуда: г.Иркутск
InCorpoReal:В принципе евтаназия вешь хорошая, при нынешнем перенаселении, да не даст людям портить генофонд. С другой стороны, если узаконить, посчитайте, чколько суицидетнов и лиц девиантного положения обраться к вам, чтобы "легально" покончить с жизнью?
А теперь включим мой нелюбимый гумманизм. Человек просит о сметри - надо это ему дать? А нет, мы ему будем устраивать праздники, устраивать встречи со знаменитостями и прочая жалеющая белеберда. Мне смешно и бесит акция цветные книжки для слепых детей!
"Брать, отдавать..." Это проблема всего общества, отдать приказ хочет каждый, а вот принять его не каждый сможет. Большинство врачей, давших клятву Гиппократа, стремятся дать "жизнь" человеку, и их ничто не остановит. Как они на Хусейном издевались: мозг мёртв, но мы поддерживаем его жизнедеятельность. Просто жуть, ни в небо улететь, ни с телом простится, как в каркасе гниёшь.
Вообщем итог моих размышлений, иди он на гумманизм с лозунгами:"И да воздастся каждому.... по желанию его.." Пускай остаётся евтаназия нелегальной, смертей и так хватает.
P.S.: Зло игнорирует Горе.
Простите, но о гуманизме речи не было. Есть просто вопрос относительон того, имеет ли человек право на смерть (без страданий), тогда, когда он этого захочет.
Лично для меня это однозначно – у самой с родственником была подобная ситуация.
И когда человек мучается каждую минуту, а помочь ты ему не можешь. И видишь, что сам он чувствует себя обузой… и слышишь, что он сам молит о смерти. Простой человеческой смерти без мучений. Когда врачи тебе прямо в присутсвии этого человека говорят, что и смысла-то везти его в больницу нет – и так умрет, и когда выписывают ему лекарства просто так – даже не занося в мед карту – только чтобы родственники успокоились. И это повашему гуманизм?!
О да, поистине гуманно оставлять человека медленно но верно умирать. Причем умирать не просто так, а с ужасными болями. Когда уже никакие таблетки и уколы не смогут облегчить страдания? Да, действительно – гуманно. Извинтие, я на всю жизнь это запомнила. И я хочу,чтобы в случае, если я окажусь в подобном положении, государство признало мое право уйти самой. В любом случае, это право за мной – и если мне не дадут спокойной смерти – найду сама.
"Всё должно быть по-честному — или не быть вообще. Потому-то ты сейчас и стоишь на краю, а я, которая предпочла верного врага лживому другу, всего лишь слегка ему помогаю. Совсем чуть-чуть. Но для победы порой достаточно и этого... "
(c) О. Громыко
(c) О. Громыко
-

Elka - постоялец
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: Чт 15.07.2004, 7:49
- Откуда: РПА
1. Источники медицинского права России, содержащие нормы
об эвтаназии
2. Понятие эвтаназии в источниках медицинского права
и в специальной литературе
3. Виды эвтаназии
4. Отграничение эвтаназии от смежных правовых институтов
5. Легализация пассивной эвтаназии в актах Всемирной медицинской
ассоциации
6. Аргументы сторонников легализации эвтаназии в России. Оценка
правовой модели легальной эвтаназии
7. Проблема начала и прекращения реанимационных мероприятий
1. Источники медицинского права России,
содержащие нормы об эвтаназии
Согласно п.4 ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
К числу международных нормативных правовых актов, регулирующих право на жизнь и тем самым косвенно затрагивающих вопрос об эвтаназии, относятся, в частности, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (с изм. и доп.от 11 мая 1994 г.) и другие нормативные правовые акты. Запрет на преднамеренное лишение жизни установлен в ст.2 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
В настоящее время в международном праве вопрос об эвтаназии не нашел практического разрешения, поскольку он тесно связан с закрепленным в приведенных источниках правом на жизнь*(1).
Что касается действующего российского законодательства, то в его нормах установлен прямой запрет на осуществление эвтаназии, закрепленный в ст.45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. (далее - Основы). В помещенном в ст.60 Основ тексте Клятвы врача содержится следующее положение: "Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь... никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии".
Наконец, если обратиться к международным и отечественным этическим нормам, содержащимся в источниках медицинского права, то на сегодняшний день сложилась следующая ситуация. С точки зрения ряда авторов, установленное в этических актах Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) право пациента умереть достойно, равно как и принадлежащее ему право на информированный отказ от медицинского вмешательства и право на облегчение боли, является выразительным свидетельством этического оправдания прекращения лечебных действий у постели умирающего больного - пассивной эвтаназии (ПЭ)*(2). Некоторые авторы даже рекомендуют практиковать пассивную эвтаназию, используя закрепленные в ст.33 Основ этические нормы о правах пациента на облегчение боли и отказ от медицинского вмешательства*(3).
Очевидно, что указанные утверждения и рекомендации, пренебрегая установленным в ст.45 Основ запретом на эвтаназию (в том числе в ее пассивной форме), не соответствуют ст.14 Этического кодекса российского врача, утвержденного Ассоциацией врачей России в ноябре 1994 г., а также ст.9 Этического кодекса медицинской сестры России. В Клятве российского врача, утвержденной Ассоциацией врачей России в ноябре 1994 г., врач - член Ассоциации обязуется руководствоваться в своих действиях "международными нормами профессиональной этики, исключая не признаваемое Ассоциацией врачей России положение о допустимости пассивной эвтаназии". Действительно, отечественные нормы медицинской этики однозначно свидетельствуют о недопустимости пассивной эвтаназии, в том числе по просьбе ближних (законных представителей) пациента.
2. Понятие эвтаназии в источниках медицинского права
и в специальной литературе
В соответствии со ст.45 Основ эвтаназия представляет собой "удовлетворение медицинским персоналом просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни".
Как было указано выше, одним из источников медицинского права являются акты, содержащие нормы медицинской этики. К их числу относится Этический кодекс российского врача, определяющий эвтаназию как "акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких", осуществляемый, в частности, путем "прекращения лечебных действий у постели умирающего больного" ("пассивной эвтаназии").
Приведенные определения позволяют выделить следующие правовые признаки эвтаназии:
1. Эвтаназия - это "акт", деяние медицинского персонала*(4) (далее -врача), которое может выражаться в действии (например, введение врачом летальной дозы лекарственного препарата) либо в бездействии (например, отказ от проведения реанимационных мероприятий). В этой связи акты ВМА, а также законодательство ряда зарубежных стран, в частности Голландии, не признают эвтаназией "ассистированное самоубийство" (АС), представляющее собой самоубийство пациента при "пособничестве врача". В случае АС врач непосредственно не совершает акт по преднамеренному лишению жизни пациента, однако дает ему рекомендации по применению тех или иных препаратов либо средств в целях самоубийства (например, выписывая желающему покончить с собой пациенту лекарство, врач информирует его о дозе, которая приведет к смертельному исходу). Обязательным признаком АС является осознание врачом последствий своего поступка, что невозможно без осведомленности врача о намерении пациента лишить себя жизни*(5).
2. Эвтаназия представляет собой преднамеренный акт, в основе которого лежит намерение (цель) врача ускорить смерть и в конечном итоге лишить жизни пациента по тем или иным мотивам (из жалости к пациенту или его ближним, ради получения платы за эвтаназию или последующую трансплантацию органов умершего пациента и т.д.).
3. В основе эвтаназии лежит волеизъявление пациента*(6), выраженное в просьбе о лишении жизни*(7). Следует подчеркнуть, что по смыслу Основ и Эвтаназиитического кодекса российского врача не рассматривается в качестве эвтаназии акт, совершенный не на основании просьбы, а в силу согласия пациента на предложение врача. Согласно ст.14 Этического кодекса российского врача, эвтаназией признается также лишение жизни пациента по просьбе его "ближних"*(8) (например, эвтаназия новорожденного по просьбе его матери, эвтаназия невменяемого пациента по просьбе его близких родственников и т.п.).
В специальной литературе выделяются дополнительные признаки эвтаназии, некоторые из которых закреплены в зарубежных источниках медицинского права:
1) Эвтаназия осуществляется "безболезненно" для пациента, т.е. предполагает использование таких препаратов и средств, которые не вызывают у пациента физической боли либо даже устраняют болевые ощущения, связанные с болезнью. Опираясь на указанный признак, словарь О. Рота определяет эвтаназию как "легкую смерть", наступающую с помощью специальных мер*(9).
2) Пациент, подвергшийся эвтаназии, является "инкурабельным", безнадежно больным человеком, претерпевающим, как правило, значительные физические и душевные страдания. Это обстоятельство подчеркивается, в частности, в Американской и Британской энциклопедиях. Так, в Британской энциклопедии эвтаназия, ввиду особого состояния больного, названа "милосердным убийством".
3. Виды эвтаназии
В специальной литературе эвтаназия подразделяется на следующие виды:
1. По характеру совершенного врачом деяния принято выделять активную и пассивную эвтаназии. Активная эвтаназия осуществляется путем активных медико-социальных действий врача (например, создание неблагоприятных условий для выживания, в том числе перемещение кровати пациента поближе к сквозняку и т.п.). Пассивная эвтаназия предполагает отказ от проведения или прекращение медико-социальных мероприятий, направленных на спасение жизни пациента (например, отключение жизнеобеспечивающей аппаратуры, прекращение питания, влекущее голодную смерть пациента, и т.п.).
2. С точки зрения роли волеизъявления пациента в акте эвтаназии последняя может быть добровольной и принудительной. Добровольная эвтаназия основана на "доброй воле", свободном желании дееспособного, вменяемого пациента. Осознание пациентом последствий осуществляемого на основании его просьбы акта является обязательным признаком добровольной эвтаназии. Во-первых, принудительная эвтаназия имеет место в случае воздействия на волю пациента со стороны врача, ближних пациента или третьих лиц (например, путем уговоров, угрозы, шантажа, воздействия на родственные чувства и т.д.); во-вторых, о принудительной эвтаназии можно говорить в тех случаях, когда врач руководствуется исключительно просьбой ближних или доверенных лиц пациента (например, в тех случаях, когда пациент, ввиду крайне тяжелого состояния, находится без сознания либо не способен выразить свою волю с помощью известных средств - устно, письменно, с помощью знаков и т.п.).
3. Анализ зарубежного законодательства позволяет выделить "криминальную", подлежащую уголовному наказанию эвтаназию и, соответственно, легальную эвтаназию, допустимую при соблюдении установленных законом условий. Например, в Голландии осуществление врачом эвтаназии без соблюдения установленных законом условий (добровольный запрос пациента и т.д.) влечет уголовную ответственность*(10). Следует подчеркнуть, что Основы не пользуются общепринятой терминологией. Так, говоря об удовлетворении врачом просьбы больного путем "прекращения искусственных мер по поддержанию жизни", Основы не называют этот акт "пассивной эвтаназией". В Этическом кодексе российского врача из всего арсенала приведенных терминов используется лишь термин "пассивная эвтаназия".
4. Отграничение эвтаназии от смежных правовых институтов
В соответствии со ст.3 Всеобщей декларации прав человека и ст.20 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь. С точки зрения своего содержания право на жизнь представляет собой естественное и неотъемлемое право каждого человека, исключающее возможность преднамеренного лишения жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание (ст.6 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., ст.2 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.).
Некоторые авторы выделяют в составе субъективного прав на жизнь правомочие по распоряжению жизнью, которое представляет собой "возможность подвергать себя значительному риску и возможность решать вопрос о прекращении жизни"*(11). Действительно, в некоторых случаях поведение гражданина связано с высоким риском для собственной жизни, однако носит общеполезный характер и в связи с этим не запрещается государством. Так, в Присяге сотрудников ОВД содержатся слова: "Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами России правовой порядок"*(12). В соответствии с п.2 ст.21 Конституции РФ и ст.43 Основ никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским и иным научным опытам (исследованиям). Таким образом, на основании добровольного согласия граждан допускается их участие в научных и иных экспериментах, в том числе опасных для жизни. Так, в работе М.Н. Малеиной упоминается о женевском враче Ж. Понто, позволившем укусить себя трем гадюкам, чтобы проверить эффективность созданной им предохранительной прививки.
В большинстве случаев правомочие по распоряжению жизнью (особенно в контексте решения вопроса о ее прекращении) ограничено комплексом правовых, религиозных и этических норм.
Правовые основания реализации данного правомочия установлены рядом нормативных правовых актов, свидетельствующих о негативном отношении государства к самостоятельному решению гражданами вопроса о прекращении жизни. Помимо установленного в ст.45 Основ запрета на эвтаназию в РФ не допускается деятельность религиозных организаций, склоняющих граждан к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии (п.2 ст.24 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"). В России также косвенно запрещена реклама самоубийств: согласно п.6 ст.5 Федерального закона "О рекламе", реклама не должна побуждать граждан к насилию, а также к опасным действиям, угрожающим безопасности граждан.
Примечательно, что жизнеобеспечивающие тенденции действующего законодательства соответствуют правовым традициям дореволюционной России, согласно которым одна из форм реализации правомочия по распоряжению собственной жизнью - самоубийство рассматривалось как уголовное преступление*(13).
Криминализация самоубийства в дореволюционном отечественном законодательстве обусловлена, во-первых, осуждением этого акта в нормах традиционной религии и этики*(14); во-вторых, несоответствием самоубийства критерию общественной пользы.
Зачастую эвтаназию рассматривают как разновидность самоубийства, поскольку в ее основе, как правило, лежит волеизъявление потерпевшего*(15). Однако все большее распространение получает иная точка зрения, согласно которой эвтаназия является самостоятельной, не тождественной самоубийству формой реализации "правомочия гражданина по распоряжению своей жизнью"*(16). Представляется, что обе приведенные трактовки эвтаназии не вполне соответствуют ее правовым особенностям и в силу этого неадекватно отражают правовую суть эвтаназии.
Дело в том, что эвтаназия имеет комплексную правовую природу: c одной стороны, в ее основе лежит акт пациента по распоряжению собственной жизнью; с другой - эвтаназия, в силу в ст.45 Основ, является актом лишения жизни одного лица - пациента другим лицом - врачом. Ввиду сложности своей правовой природы эвтаназия не укладывается в правовой механизм реализации субъективного права на жизнь. Действительно, право на жизнь относится к разряду личных неимущественных прав, поэтому его реализация, в том числе в аспекте распоряжения жизнью, индивидуальна, неотделима от обладающей соответствующим субъективным правом личности. Осуществление этого права при посредстве другого лица с использованием представительства и иных форм замещения одного лица другим в данном случае недопустимо (п.4 ст.182 ГК РФ), так что с точки зрения гражданского права акт распоряжения собственной жизнью представляет собой исключительно индивидуальный акт, самостоятельное действие (или бездействие) потерпевшего. Именно поэтому эвтаназию, осуществляемую с участием врача, нельзя рассматривать как акт пациента по "распоряжению" собственной жизнью.
Важно учесть еще одно обстоятельство. С точки зрения гражданского права легальное распоряжение собственной жизнью основано на "доброй воле" потерпевшего (т.е. на воле, свободной от насилия, заблуждения и прочих "пороков"); в противном случае можно подозревать убийство, несчастный случай и т.д. Между тем эвтаназия во многих случаях осуществляется принудительно не только в смысле "пороков воли" потерпевшего, но и ввиду достаточно частых случаев учета врачом исключительно "чужой воли" близких родственников или доверенных лиц потерпевшего.
Лишь в случае добровольной эвтаназии акт лишения жизни пациента основан на "доброй воле" последнего. Однако такое добровольное распоряжение жизнью является с точки зрения действующего законодательства злоупотреблением правом на жизнь. Действительно, в силу ст.18 ГК РФ в содержание гражданской правоспособности входят личные неимущественные права, в том числе право на жизнь. Согласно п.3 ст.22 ГК РФ, полный или частичный отказ гражданина от правоспособности (в том числе в части права на жизнь) ничтожен, за исключением случаев, установленных законом. К числу таких случаев относятся указанные выше легальные возможности распоряжения жизнью (добровольное участие в опасных для жизни научных экспериментах, деятельность МЧС и т.д.). Между тем эвтаназия, в силу ст.45 Основ, не относится к такого рода исключениям. Таким образом, гражданин, выражая свою просьбу об эвтаназии, преступает пределы осуществления права на жизнь, злоупотребляет этим правом, поскольку, фактически, отказывается от него.
Наконец, нельзя забывать о том, что осуществление и даже осознанное побуждение (подстрекательство) к эвтаназии влечет уголовную, а не гражданско-правовую ответственность. Даже в Голландии и США, где эвтаназия легализована, она выступает как деяние, влекущее уголовную ответственность, за исключением случаев, установленных законом*(17).
Указанные особенности правового регулирования эвтаназии выводят ее за рамки гражданско-правовой реализации субъективного права на жизнь в аспекте распоряжения собственной жизнью. В настоящее время в нормах отечественного и зарубежного законодательства отношения, возникающие в связи с эвтаназией, не составляют предмета гражданско-правового регулирования.
По мнению ряда авторов, эвтаназия как юридический факт представляет собой не "реализацию права на жизнь", а правонарушение. Одной из гарантий закрепленного в ст.3 Всеобщей декларации прав человека и ст.20 Конституции РФ права на жизнь является запрет на преднамеренное лишение человека жизни, установленный в ст.2 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.
В действующем отечественном и зарубежном уголовном законодательстве выход за пределы приведенного запрета квалифицируется как преступление против жизни - убийство. Согласно ст.105 УК РФ, убийство представляет собой умышленное причинение смерти другому человеку. Очевидно, что по ряду признаков эвтаназия тождественна убийству. Объектом эвтаназии является жизнь пациента. Объективная сторона выражается в действии (бездействии) врача. Субъективная сторона эвтаназии характеризуется наличием у врача прямого умысла, направленного на лишение жизни пациента. Вместе с тем некоторые особенности эвтаназии не позволяют совершенно отождествить ее с убийством по ст.105 УК РФ. Прежде всего, следует иметь в виду безнадежное, вызывающее сострадание состояние пациента. Зачастую жертвами эвтаназии становятся люди, "жестоко страдающие от боли, впавшие в депрессию, обычно сопровождающую смертельную болезнь" (Заявление о пособничестве врачей при самоубийствах; принято ВМА в сентябре 1992 г.). На эвтаназии нередко настаивают люди, осознающие, что болезнь приведет их к неизбежному распаду личности (например, в результате утраты отдельных функций головного мозга) со смертельным исходом. Данные факторы придают эвтаназии колорит "милосердного убийства" с типичными мотивами жалости, сострадания к пациенту и (или) его ближним, неверного представления о врачебном долге облегчить боль и т.д. Указанные мотивы при определении меры уголовной ответственности за эвтаназию могут рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Впрочем, осуществление эвтаназии может быть основано на иных мотивах - не исключен, в частности, корыстный мотив получения вознаграждения за последующую трансплантацию органов жертвы. Подобные мотивы несомненно должны расцениваться как отягчающее обстоятельство.
Важной особенностью эвтаназии является то, что она, за исключением принудительных форм, совершается по доброй воле пациента, выраженной в виде обращенной к врачу просьбы о лишении жизни. Между тем в научном комментарии к Уголовному кодексу РФ*(18) акт убийства квалифицируется как насильственный, предполагающий насилие над личностью потерпевшего. В этой связи в качестве убийства по ст.105 УК РФ можно рассматривать лишь принудительную эвтаназию.
Применению ст.105 УК РФ к эвтаназии препятствует и статья 124 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность врача за неоказание медицинской помощи без уважительных причин, к числу которых относятся такие установленные действующим законодательством причины, как отказ врача от лечения пациента по ст.33 и 58 Основ, отказ от проведения реанимационых мероприятий по основаниям, указанным в соответствующем приказе Минздрава. Фактически, пассивная эвтаназия является типичным примером отказа врача от оказания помощи пациенту со смертельным исходом для последнего*(19).
Проблематичность применения ст.105 УК РФ к эвтаназии обусловливает необходимость дополнения УК специальной статьей об эвтаназии*(20). Представляется, что такая новелла поможет избежать двух опасных крайностей. Одна их них заключается в декриминализации эвтаназии, отражающей, по сути, "большевистский подход" к этому явлению. Известно, что в примечании к ст.143 УК РСФСР 1922 г. в его первоначальной редакции содержалось положение о "непреступности" убийства, совершенного из сострадания по настойчивой просьбе потерпевшего. Столь решительная декриминализация эвтаназии не характерна для современного общества: как уже было замечено, в странах, где легализована эвтаназия, продолжают действовать нормы об уголовной ответственности за незаконное ее осуществление.
Другая крайность правовой регламентации прежде всего добровольной эвтаназии состоит в отождествлении ее с убийством. Так, в некоторых странах добровольная эвтаназия квалифицируется как "убийство по согласию". Подобная квалификация не вполне соответствует "правовой логике", поскольку жертвой эвтаназии является не тот, кто дает согласие, а тот, кто просит о смерти*(21).
5. Легализация пассивной эвтаназии
в актах Всемирной медицинской ассоциации
Впервые Всемирная медицинская ассоциация рассмотрела вопрос об эвтаназии в 1950 г. и осудила ее совершение "при любых обстоятельствах". Однако впоследствии в актах ВМА появились нормы, в известной степени оправдывающие пассивную эвтаназию. Речь идет о Лиссабонской Декларации прав пациента (сентябрь/октябрь 1981 г.), согласно которой пациент имеет право, получив "адекватную информацию... отказаться от лечения", а также право "умереть достойно". Еще один документ ВМА - Венецианская Декларация о терминальном состоянии (октябрь 1983 г.) прямо обязывает врача осуществлять пассивную, в том числе принудительную (на основе волеизъявления родственников), эвтаназию: "Врач не продлевает мучения умирающего больного, в том числе связанные с неизлечимой болезнью и уродством, прекращая по его просьбе, а если больной без сознания - по просьбе его родственников, лечение, способное лишь отсрочить наступление неизбежного конца".
Вскоре международные этические нормы были закреплены в законодательных актах отдельных государств. В частности, они (за исключением права на достойную смерть) были восприняты российским законодательством: статья 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан включает в перечень прав пациента при оказании медико-социальной помощи, во-первых, право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством допустимыми способами и средствами; во-вторых, право на отказ от медицинского вмешательства при осведомленности пациента о его возможных последствиях.
Приведенные этические и правовые нормы способствуют переосмыслению проблемы эвтаназии. Действительно, в контексте этих норм пассивная, в том числе принудительная, эвтаназия представляется способом облегчения боли и вариантом реализации права пациента на отказ от медицинского вмешательства. В результате пассивная эвтаназия получает оправдание как метод лечения и сфера реализации "автономии" (свободы выбора) пациента.
Попытаемся проанализировать этические и правовые основы легализации эвтаназии. И прежде всего рассмотрим закрепленное в Лиссабонской Декларации прав пациента право пациента "умереть достойно" ("право на достойную смерть"). Следует подчеркнуть, что указанное право является не более чем этической нормой, поскольку оно предусмотрено этическими документами ВМА, не относящимися к разряду нормативных правовых актов. Право на достойную смерть не содержится и в нормах действующего российского законодательства. Что касается действующих в России этических кодексов медицинских работников, то они упоминают о праве пациента на достойную смерть в контексте недопустимости эвтаназии (ст.14 Эвтаназиитического кодекса российского врача, ст.9 Этического кодекса медицинской сестры России).
Очевидно, что причиной индифферентного отношения как международных, так и отечественных нормативных правовых источников к провозглашенному ВМА праву на достойную смерть является правовая несостоятельность этого мнимого права. Попытаемся доказать это посредством следующего анализа. Содержание права на достойную смерть тесно связано с понятием человеческого достоинства. В отечественной юридической литературе "достоинство" определяется как "совокупность собственных качеств, способностей и их внутренняя самооценка"*(22). Таким образом, право на достойную смерть означает право на смерть, соответствующее внутренним качествам пациента и его самооценке. Однако каким образом определить критерий такого соответствия? За рубежом в качестве соответствующего критерия рассматривают отсутствие у безнадежно больных пациентов "лишних страданий", что обусловливает не только создание для умирающего "комфортной", благоустроенной обстановки, но и обеспечение ему выбора средств "безболезненной" смерти. Очевиден прагматизм такого критерия, исключающий учет субъективных интересов личности в процессе умирания.
Во-первых, в условиях мировоззренческого плюрализма личность может по-разному воспринимать предсмертные страдания. Например, в рамках христианского мировоззрения смерть - это "дверь в пространство вечности". В связи с этим смертельная болезнь воспринимается христианином как "чрезвычайно важное событие" в его земной жизни, поскольку оно представляет собой подготовку к переходу в жизнь вечную*(23). Один протестантский пастор, описывая свою терминальную болезнь, называет ее "счастливейшим временем жизни". Доктор Е. Клюбер-Росс пишет: "Я хотела бы, чтобы причиной моей смерти был рак, ибо не хочу лишиться периода роста личности, который приносит с собою терминальная болезнь"*(24). Таким образом, установка врачей на устранение "лишних страданий" вполне может не соответствовать либо даже противоречить убеждениям пациента.
Во-вторых, говоря о "страдании", следует иметь в виду не только физические, но и душевные (психические) ощущения. Руководствуясь критерием о недопустимости для пациента "лишних страданий", врач встает перед целым рядом неразрешимых вопросов: что страдает сильнее - тело или душа? Какие страдания являются "лишними"? И т.д. Например, умирает одинокий престарелый отец, ожидающий из командировки свою дочь. Мысль о смерти без последнего свидания с любимым чадом мучительна для отца. Вместе с тем практически непереносима и физическая боль, которую он претерпевает. Как поступить врачу: оставить старика мучиться телом до приезда дочери или ускорить смерть, лишив его душевного успокоения в час предсмертного свидания?
Наконец, нельзя не учесть, что болезнь и чувство приближающейся смерти настолько изменяют личность, что она может не обращать внимания на то, что прежде, до предсмертного томления причиняло ей страдание, унижало ее, не соответствовало ее внутренним качествам и самооценке. Способен ли врач "диагностировать" предсмертное изменение личности?*(25). Да и нужна ли такая диагностика? Нередко в отечественных больницах умирающие лишены даже обычного ухода. Однако большинство из них, охваченные тайной смерти, не считают бытовые неудобства (нестираное белье, запах кала и другие обстоятельства), которые до болезни были для них неприемлемы, "лишним страданием", оскорблением своего достоинства.
Не случайно понятие "лишние страдания" отсутствует в медицине; не закреплено оно и в традиционных этических и религиозных нормах. В этой связи невозможна и правовая регламентация этого понятия, представляющего собой современный критерий "достойной смерти" человека. Тем не менее право на достойную смерть используется как основное средство декриминализации эвтаназии, трактовки ее в качестве одной из форм реализации права на жизнь в аспекте распоряжения жизнью.
Представляется достаточно поверхностным и обоснование эвтаназии правом пациента на облегчение боли и соответствующим долгом врача облегчить боль. Дело в том, что реализация пациентом права на облегчение боли имеет известные пределы, связанные, в частности, с материальным положением пациента, ограниченностью его возможностей по приобретению обезболивающих средств. Важным пределом реализации упомянутого права является также соблюдение врачом права пациента на жизнь, исполнение профессионального долга сохранения человеческой жизни*(26). Именно поэтому эвтаназия не вписывается в прокрустово ложе "способа облегчения боли". Несомненно, что трактовка эвтаназии в качестве такого способа содействует формированию ложного представления об эвтаназии как методе лечения, облегчающем боль. Представляется, что отождествление эвтаназии с методом лечения отнюдь не способствует соблюдению прав личности и прогрессу медицины, смысл которой состоит в борьбе со смертью.
В качестве еще одного правового основания эвтаназии нередко рассматривают право пациента на отказ от медицинского вмешательства. К сожалению, на сегодняшний день в России механизм реализации этого права практически не разработан. Посвященная данному вопросу статья 33 Основ крайне слаба с точки зрения юридической техники прежде всего потому, что в ней не закреплены процедурные аспекты отказа. Существующий правовой пробел заполняется опрометчивыми рекомендациями, не имеющими под собой достаточных правовых оснований.
В силу ст.33 Основ пациент вправе отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Основ*(27). При этом нужно учесть, что, в соответствии со ст.45 Основ, удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо средствами, в том числе путем прекращения искусственных мер по поддержанию жизни (пассивная эвтаназия), запрещено. На это обстоятельство указывает и статья 14 Эвтаназиитического кодекса российского врача, согласно которой недопустима пассивная эвтаназия, предполагающая прекращение лечебных действий у постели умирающего больного. Аналогичный запрет установлен и в Клятве российского врача: "Я обязуюсь во всех врачебных действиях руководствоваться... международными нормами профессиональной этики, исключая не признаваемое Ассоциацией врачей России положение о допустимости пассивной эвтаназии". Несмотря на приведенные правовые и этические нормы, некоторые авторы считают, что статья 33 Основ, предоставляя пациенту право отказаться от медицинского вмешательства, фактически открывает широкую возможность для осуществления пассивной эвтаназии, парализуя тем самым установленный в ст.45 Основ запрет*(28). Очевидна правовая безграмотность подобных утверждений, вступающих в противоречие с основополагающими принципами применения гражданского законодательства. Прежде всего, следует подчеркнуть, что статья 45 Основ носит императивный характер и, в отличие от диспозитивных норм, не допускает каких-либо исключений из установленного в ней запрета на эвтаназию. Отношения, возникающие между медицинским персоналом и пациентом по поводу пассивной эвтаназии, урегулированы в ст.45 Основ прямо и недвусмысленно. В связи с этим исключена возможность использования так называемой аналогии закона, когда к соответствующим отношениям применяется правовая норма, регулирующая сходные отношения (п.1 ст.6 ГК РФ). Действительно, "аналогия закона" возможна лишь в случае существования в законе пробела, не восполняемого с помощью предусмотренных законом средств. Однако законодательного пробела в сфере удовлетворения просьбы пациента о пассивной эвтаназии не существует - эта сфера урегулирована статьей 45 Основ, исключающей применение ст.33 по аналогии.
Наконец, "расширительное" толкование ст.33 Основ в смысле распространения процедуры отказа пациента от медицинского вмешательства на отношения в сфере пассивной эвтаназии недопустимо ввиду несоответствия такого толкования логическому и систематическому принципам толкования правовых норм. В частности, систематический принцип предполагает определение смысла толкуемой нормы путем уяснения ее места в системе гражданского законодательства и соотношения данной нормы со смежными нормами права*(29). Очевидно, что соотнесение ст.33 Основ со смежной - статья 45 имеет следствием вывод о том, что статья 45 устанавливает известный предел допустимого отказа пациента от медицинского вмешательства по ст.33 Основ. Этим пределом является пассивная эвтаназия - удовлетворение просьбы больного о "прекращении мероприятий по искусственному поддержанию жизни".
Проведенный анализ завершим выводом, который столь непреложен, что не подвергается сомнению в отечественных нормативных источниках и правовой литературе: недопустимо применять отдельно взятую статью закона (в данном случае ст.33 Основ) без учета прочих статей (в данном случае ст.45 Основ), непосредственно регулирующих соответствующие отношения. В противном случае применительно к проблеме эвтаназии можно было бы объявить, что статья 32 Основ, обусловливающая медицинское вмешательство согласием пациента, является правовым основанием для осуществления активной эвтаназии.
Несмотря на очевидную для юристов недопустимость применения аналогии закона к отношениям, четко урегулированным соответствующей статьей, в правовой и медицинской литературе последних лет появляются суждения о том, что статья 33 Основ является достаточным правовым основанием для проведения пассивной эвтаназии.
Особенно настораживают публикации, призывающие врачей практиковать пассивную эвтаназию, проявляя заботу лишь о "грамотном" документальном оформлении отказа пациента от продолжения реанимационных и иных жизнеспасательных мероприятий*(30). Подобные призывы основаны на недостаточной правовой грамотности их авторов, стремящихся выдать желаемую для них легализацию пассивной эвтаназии за нечто уже состоявшееся.
В условиях крайне неудовлетворительной правовой регламентации предусмотренного статьей 33 Основ механизма отказа пациента от медицинского вмешательства применение указанной статьи для осуществления эвтаназии грозит многочисленными злоупотреблениями врачей и близких родственников пациента. Во-первых, статья 33 Основ оставляет без внимания вопрос о вменяемости пациента на момент отказа от медицинского вмешательства. Во-вторых, приведенная статья распространяет свое действие на неопределенный круг пациентов, к числу которых, по смыслу статьи, относятся не только неизлечимо больные, испытывающие значительные физические и душевные страдания, но также и те пациенты, чье состояние не так уж безнадежно и чьи страдания не слишком велики. Таким образом, если следовать рекомендациям некоторых авторов, в рамках ст.33 Основ вполне допустима эвтаназия людей, способных к жизненной реабилитации. Наконец, статья 33 Основ отличается дискриминационным характером в отношении законных прав и интересов несовершеннолетних (в возрасте до 15 лет) и недееспособных пациентов. В силу данной статьи отказ от медицинской помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет и недееспособному гражданину может быть заявлен его родителями (законными представителями).
Прежде всего обращает на себя внимание установленный статьей возраст несовершеннолетних, не имеющих права на самостоятельное решение вопроса об оказании им медицинской помощи. Дело в том, что, согласно ст.28 ГК РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних совершают юридически значимые действия от имени и в интересах несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают такие действия с согласия своих родителей (законных представителей) (ст.26 ГК РФ). Таким образом, положение ст.33 Основ в части предоставления родителям (законным представителям) исключительного права на отказ от медицинской помощи несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет противоречит ст.26 ГК РФ, по смыслу которой несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, участвуют в решении вопроса об отказе от медицинского вмешательства. Кроме того, представляется важным положение ст.57 Семейного
-
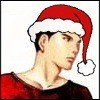
Виктор - a.k.a. FaUsT
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: Чт 17.04.2003, 2:13
- Откуда: Иркутск
Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство
С древнейшей поры проблема жизни и смерти была предметом философского и правового осмысления. Постичь проблему пытались и античные философы, видя в ней важнейший вопрос человеческого существования. Высказывались самые разные суждения. Сократ и Платон, например, считали допустимым убийство тяжело больных людей, даже без их согласия. Более того, они полагали, что человек, в силу своей слабости ставший обузой для общества, обязан совершить самоубийство, что это его моральный долг. Т. Мор писал (Золотая книга, 1516 год): "Если болезнь не только не поддается врачеванию, но и доставляет постоянные мучения и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе самому и, так сказать, переживает уже свою смерть".
В переводе с греческого "эвтаназия" значит "легкая, безболезненная смерть". Термин этот был впервые использован Ф. Бэконом, который указывал, что долг врача не только в восстановлении здоровья, но и в облегчении страданий и мучений, причиняемых болезнью, когда уже нет никакой надежды на спасение и уже сама эвтаназия является счастьем.
В уголовно-правовом значении эвтаназия определяется как умышленное лишение жизни безнадежно больного человека для избавления его от страданий. По способам применения ее делят на "активную" (позитивную), состоящую в совершении определенных действий по ускорению смерти безнадежно больного человека, и "пассивную" (негативную), суть которой - отказ от мер, продляющих жизнь такого больного.
Стремительное развитие цивилизации, научно-технический прогресс, достижения современной медицины в области реаниматологии - все это заставляет юристов, медиков и философов по-новому, свежим взглядом взглянуть на проблему эвтаназии. Эта древнейшая, тысячелетия назад поставленная проблема наполнилась в настоящее время новым содержанием. Возросшее внимание к эвтаназии связано не только с достижениями медицины, но и с изменениями в системе нравственных и духовных ценностей, пониманием приоритетности прав человека. Проблема эвтаназии имеет не только юридическую, но и ярко выраженную нравственную сторону. Ее разрешение имеет огромное практическое значение, позволяя обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан.
Вопрос разрешения эвтаназия в России обсуждается последние 15-20 лет. Он вызывает жаркие споры философов, медиков и юристов. Зато явно невнимателен к данному вопросу законодатель. В УК нет специальной нормы об ответственности за совершение эвтаназии. Уголовный закон рассматривает ее как обычное убийство, по ст.105 УК. Вряд ли это можно признать правильным.
В отличие от России во многих странах проблема эвтаназии обсуждается уже достаточно давно. Как правило, эвтаназия считается преступлением, но его состав относится к привилегированным. Напомню, что активная эвтаназия в отношении неизлечимо больных осуждена Нюрнбергским международным трибуналом как преступление против человечности. Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), неоднократно рассматривая вопрос об эвтаназии, всегда находила ее недопустимой и категорически осуждала. Ее Декларация об эвтаназии 1987 года подтвердила, что "эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична". Следует подчеркнуть, что речь идет лишь об активной эвтаназии. Пассивная эвтаназия законодательно разрешена более чем в 40 государствах. В отдельных штатах США узаконен особый документ, называемый "Воля при жизни", в котором человек сам определяет меру помощи, которую он хотел бы получить при возможном безнадежном состоянии. Так, в штате Калифорния хронически больным людям разрешено прибегнуть к пассивной эвтаназии после подписания завещания при двух свидетелях. Число сторонников эвтаназии, считающих, что каждый человек имеет право на достойную и легкую смерть, неизменно растет. 10 апреля 2001 г. Парламент Голландии утвердил закон, освобождающий от уголовной ответственности врачей, помогающих уходить из жизни страдающим безнадежно больным людям. Таким образом, Голландия стала первой страной, узаконившей активную эвтаназию. В марте 2002 г. Верховный Суд Великобритании предоставил "право достойной смерти" 43-летней парализованной женщине.
Уместно вспомнить, что УК РСФСР 1922 года в примечании к ст.143, недолго, правда, просуществовавшем, оговаривал, что убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается.
Социологические опросы свидетельствуют, что значительная часть населения считает эвтаназию допустимой. Более того, некоторые врачи тайно практикуют ее в отношении безнадежно больных.
Согласно ст.45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Уголовный закон исходит из того, что человеческая жизнь должна охраняться как в процессе жизни, так и в процессе рождения и смерти.
На мой взгляд, нет никаких аргументов против провозглашения права человека на жизнь и смерть, ибо два права тесно взаимосвязаны. Мало того, имеются весомые доводы в пользу разрешения как активной, так и пассивной эвтаназии - конечно, в исключительных случаях, при наличии сознательной просьбы больного, невозможности облегчить его страдания известными методами и средствами и несомненной доказанности невозможности спасти жизнь больного.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) рассматривает право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека. В российском законодательстве право на жизнь впервые провозглашено в 1991 году в Декларации прав и свобод человека и гражданина. Жизнь человека заняла особое место и в числе объектов уголовно-правовой охраны. В ст.20 Конституции РФ сказано, что "каждый имеет право на жизнь". Но признание права человека на жизнь логически означает и признание его права на смерть (см.: Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. С.327).
Право человека на жизнь и его право на смерть столь тесно между собой связаны, что являются, можно сказать, двумя сторонами одной медали. Реализация права на жизнь осуществляется лицом индивидуально и предполагает распоряжение жизнью по своему усмотрению, включая и добровольное принятие решения о прекращении жизни. Возможность самостоятельного распоряжения своей жизнью, в том числе решение вопроса о ее прекращении, является одним из правомочий права человека на жизнь. Очевидно, что именно по этой причине в УК РФ и других стран уголовная ответственность за попытку самоубийства не предусмотрена. Никто не вправе препятствовать человеку, имеющему право на смерть, в осуществлении данного права - в том числе и государство, которое является гарантом в реализации прав и свобод человека. Государство, отказывая человеку в праве на смерть, ограничивает его свободу, превращает право на жизнь в обязанность жить.
На мой взгляд, запрет эвтаназии неконституционен. Он противоречит принципам обеспечения свободы и человеческого достоинства. В то же время государство в отдельных случаях все же признает право своих граждан на смерть, предоставляя им возможность подвергать себя значительному риску, сопряженному с угрозой жизни. Например, высока степень риска каскадеров, испытателей, лиц, проводящих различные научные эксперименты, и т.п.
Наиболее горячие споры вызывает морально-нравственный аспект эвтаназии. Нравственно ли вообще прерывать жизнь даже тяжело больного и страдающего человека? Не противоречит ли идея эвтаназии самой сути медицинской профессии, призванной прилагать все усилия для сохранения жизни человека?
Ряд авторов считают, что никто не волен лишать человека жизни, которая во всех случаях должна поддерживаться до естественного конца (см.: Бородин С.В., Глушков В.А. Убийство из сострадания // Общественные науки и современность. 1992. N 4. С. 144, 145). Против эвтаназии активно выступает и церковь. Представители различных конфессий утверждают, что жизнь, какой бы тяжелой она ни была, дается человеку свыше и не может быть насильственно прервана, а сознательный уход из жизни просто недопустим. По мнению буддистов, напротив, состояние человека в момент смерти является решающим для его посмертной судьбы, поэтому предпочтительнее, если человек умрет спокойно и без мучений. Как верно отмечает Ф. Фут, "не просто состояние быть живым может быть определено как благо или само по себе считаться им, а именно жизнь, доходящая до определенного стандарта нормальности" (Фут Ф. Эвтаназия // Философские науки. N 6. С. 69). В качестве морального обоснования целесообразности допустимости эвтаназии можно указать на то, что высшей ценностью является реальное благополучие человека. Не каждый неизлечимо больной имеет силы лежать парализованным, не обходиться без посторонней помощи и испытывать постоянные боли. Не у всех одинаковое представление о качестве жизни.
Иногда люди пытаются в таких ситуациях самостоятельно уйти из жизни, но зачастую попытки самоубийства оканчиваются неудачно, что сопровождается еще большими физическими и психическими страданиями. Нередко безнадежно больной человек, желая уйти из жизни, просто не в состоянии сделать это в силу недостатка духа либо в силу ограниченности в действиях из-за своей прикованности к постели. Думается, что в таких случаях пациент вправе отказаться от получения медицинской помощи и даже потребовать отключения жизнеобеспечивающих систем. Ведь, чувствуя себя плохо, человек имеет право отказаться от госпитализации и необходимой операции, и врачи не вправе навязать ему медицинскую помощь. А сколько известно случаев, когда врачи выписывают безнадежно больного домой, когда все средства излечения оказались безрезультатными. На практике медицинские работники нередко рекомендуют не принимать мер, продлевающих жизнь пациента, когда при неутешительных прогнозах процесс дегенерации уже вошел в необратимую стадию. Это еще раз подтверждает, что государство косвенно предоставляет право на пассивную эвтаназию.
Безнравственно и негуманно заставлять жить человека, который, умирая в мучениях, молит о смерти. И если жизнь уже не является благом, милосердие выскажется за ее прекращение. Если государство в лице органов здравоохранения не в состоянии облегчить мучения больного и попытаться приблизить качество его жизни к достойным условиям, то, как справедливо отмечают Ю. Дмитриев и Е. Шленева, отказ от эвтаназии может рассматриваться как применение к человеку пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, что запрещается статьей 21 Конституции РФ (см.: Дмитриев Ю.А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. N 11. С. 58, 59). К сожалению, в современной отечественной медицине совершенно не затрагиваются вопросы, связанные с оказанием помощи неизлечимо больным лицам, облегчением их страданий.
Сторонником эвтаназии был и А. Кони, который считал, что она допустима при наличии: сознательной и устойчивой просьбы больного; невозможности облегчить страдания известными способами; точной и несомненной доказанности невозможности спасти жизнь, установленной коллегией врачей при обязательном единогласии; предварительного уведомления прокуратуры (см.: Кони А.Ф. Собр. соч. в 8 томах. Т. 4. М., 1967. С. 503).
Основные аргументы противников эвтаназии таковы: при осуществлении эвтаназии возможны злоупотребления со стороны заинтересованных лиц; медицинская наука и практика не гарантированы от диагностических ошибок; возможно изобретение нового препарата, способного спасти жизнь пациента.
Не думаю, однако, что это достаточные доводы для запрета эвтаназии: злоупотребления возможны в любой области общественных отношений. Минимизировать их - задача законодательства.
Как отмечают Ю. Дмитриев и Е. Шленева, биолого-медицинский аспект эвтаназии состоит в том, чтобы точно определить круг пациентов, которым она может быть показана. Среди таких пациентов - лица, находящиеся в устойчивом вегетативном состоянии. При современных методах диагноза факт гибели мозга можно установить достаточно точно. Необходимо, чтобы диагноз устанавливался несколькими независимыми специалистами и все медицинские средства оказались исчерпанными. Что касается возможности изобретения нового аппарата либо открытия каких-то препаратов, способных спасти жизнь пациента, то это обстоятельство для такого пациента уже не играет существенной роли.
В литературе приводился пример, когда Декретом от 1 сентября 1939 г. в рамках программы "Эвтаназия" в гитлеровской Германии 275 тыс. умственно отсталых и психически больных людей были отправлены в газовые камеры. Но здесь следует отметить, что принудительное лишение жизни ни при каких обстоятельствах нельзя признавать эвтаназией, ибо эвтаназия - это лишение жизни безнадежно больного прежде всего при наличии устойчивой и сознательной о том просьбы. Вообще согласие пациента на любое медицинское вмешательство следует считать главным критерием клинических взаимоотношений. Безусловно, пациент должен быть способен понять информацию о своем здоровье, возможных методах лечения и последствиях, а также вправе после консультаций со специалистами принять решение о согласии или отказе от соответствующего решения, включая и согласие на эвтаназию.
Необходимо предусмотреть процедуры, которые защищали бы людей от принуждения дачи согласия на эвтаназию и исключили бы возможность различных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. Применение эвтаназии должно быть не только законодательно разрешено, но и обеспечено определенными правовыми гарантиями со стороны государства, его органов и должностных лиц и иметь весьма жесткую регламентацию.
Опасность злоупотреблений требует чрезвычайной осторожности в практических вопросах эвтаназии. Но это не значит, что следует принципиально от нее отказаться.
На мой взгляд, необходимо принятие федерального закона об эвтаназии, который бы юридически закрепил правомерность эвтаназии и регламентировал порядок и условия ее применения. В связи с чем представляется целесообразным дополнить главу 8 УК РФ "Обстоятельства, исключающие преступность деяния" новой статьей - "Эвтаназия". В то же время следует установить уголовную ответственность за нарушение условий ее правомерного применения. Состав такого преступления можно было бы сформулировать следующим образом:
"Статья 108. Убийство из сострадания к потерпевшему или по его настоянию
Умышленное лишение жизни человека из сострадания к нему или по его настоянию с нарушением установленных законом условий и порядка правомерной эвтаназии - наказывается..."
С. Тасаков,
доцент Чувашского госуниверситета
"Российская юстиция", N 2, февраль 2003 г.
С древнейшей поры проблема жизни и смерти была предметом философского и правового осмысления. Постичь проблему пытались и античные философы, видя в ней важнейший вопрос человеческого существования. Высказывались самые разные суждения. Сократ и Платон, например, считали допустимым убийство тяжело больных людей, даже без их согласия. Более того, они полагали, что человек, в силу своей слабости ставший обузой для общества, обязан совершить самоубийство, что это его моральный долг. Т. Мор писал (Золотая книга, 1516 год): "Если болезнь не только не поддается врачеванию, но и доставляет постоянные мучения и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе самому и, так сказать, переживает уже свою смерть".
В переводе с греческого "эвтаназия" значит "легкая, безболезненная смерть". Термин этот был впервые использован Ф. Бэконом, который указывал, что долг врача не только в восстановлении здоровья, но и в облегчении страданий и мучений, причиняемых болезнью, когда уже нет никакой надежды на спасение и уже сама эвтаназия является счастьем.
В уголовно-правовом значении эвтаназия определяется как умышленное лишение жизни безнадежно больного человека для избавления его от страданий. По способам применения ее делят на "активную" (позитивную), состоящую в совершении определенных действий по ускорению смерти безнадежно больного человека, и "пассивную" (негативную), суть которой - отказ от мер, продляющих жизнь такого больного.
Стремительное развитие цивилизации, научно-технический прогресс, достижения современной медицины в области реаниматологии - все это заставляет юристов, медиков и философов по-новому, свежим взглядом взглянуть на проблему эвтаназии. Эта древнейшая, тысячелетия назад поставленная проблема наполнилась в настоящее время новым содержанием. Возросшее внимание к эвтаназии связано не только с достижениями медицины, но и с изменениями в системе нравственных и духовных ценностей, пониманием приоритетности прав человека. Проблема эвтаназии имеет не только юридическую, но и ярко выраженную нравственную сторону. Ее разрешение имеет огромное практическое значение, позволяя обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан.
Вопрос разрешения эвтаназия в России обсуждается последние 15-20 лет. Он вызывает жаркие споры философов, медиков и юристов. Зато явно невнимателен к данному вопросу законодатель. В УК нет специальной нормы об ответственности за совершение эвтаназии. Уголовный закон рассматривает ее как обычное убийство, по ст.105 УК. Вряд ли это можно признать правильным.
В отличие от России во многих странах проблема эвтаназии обсуждается уже достаточно давно. Как правило, эвтаназия считается преступлением, но его состав относится к привилегированным. Напомню, что активная эвтаназия в отношении неизлечимо больных осуждена Нюрнбергским международным трибуналом как преступление против человечности. Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), неоднократно рассматривая вопрос об эвтаназии, всегда находила ее недопустимой и категорически осуждала. Ее Декларация об эвтаназии 1987 года подтвердила, что "эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична". Следует подчеркнуть, что речь идет лишь об активной эвтаназии. Пассивная эвтаназия законодательно разрешена более чем в 40 государствах. В отдельных штатах США узаконен особый документ, называемый "Воля при жизни", в котором человек сам определяет меру помощи, которую он хотел бы получить при возможном безнадежном состоянии. Так, в штате Калифорния хронически больным людям разрешено прибегнуть к пассивной эвтаназии после подписания завещания при двух свидетелях. Число сторонников эвтаназии, считающих, что каждый человек имеет право на достойную и легкую смерть, неизменно растет. 10 апреля 2001 г. Парламент Голландии утвердил закон, освобождающий от уголовной ответственности врачей, помогающих уходить из жизни страдающим безнадежно больным людям. Таким образом, Голландия стала первой страной, узаконившей активную эвтаназию. В марте 2002 г. Верховный Суд Великобритании предоставил "право достойной смерти" 43-летней парализованной женщине.
Уместно вспомнить, что УК РСФСР 1922 года в примечании к ст.143, недолго, правда, просуществовавшем, оговаривал, что убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается.
Социологические опросы свидетельствуют, что значительная часть населения считает эвтаназию допустимой. Более того, некоторые врачи тайно практикуют ее в отношении безнадежно больных.
Согласно ст.45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Уголовный закон исходит из того, что человеческая жизнь должна охраняться как в процессе жизни, так и в процессе рождения и смерти.
На мой взгляд, нет никаких аргументов против провозглашения права человека на жизнь и смерть, ибо два права тесно взаимосвязаны. Мало того, имеются весомые доводы в пользу разрешения как активной, так и пассивной эвтаназии - конечно, в исключительных случаях, при наличии сознательной просьбы больного, невозможности облегчить его страдания известными методами и средствами и несомненной доказанности невозможности спасти жизнь больного.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) рассматривает право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека. В российском законодательстве право на жизнь впервые провозглашено в 1991 году в Декларации прав и свобод человека и гражданина. Жизнь человека заняла особое место и в числе объектов уголовно-правовой охраны. В ст.20 Конституции РФ сказано, что "каждый имеет право на жизнь". Но признание права человека на жизнь логически означает и признание его права на смерть (см.: Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. С.327).
Право человека на жизнь и его право на смерть столь тесно между собой связаны, что являются, можно сказать, двумя сторонами одной медали. Реализация права на жизнь осуществляется лицом индивидуально и предполагает распоряжение жизнью по своему усмотрению, включая и добровольное принятие решения о прекращении жизни. Возможность самостоятельного распоряжения своей жизнью, в том числе решение вопроса о ее прекращении, является одним из правомочий права человека на жизнь. Очевидно, что именно по этой причине в УК РФ и других стран уголовная ответственность за попытку самоубийства не предусмотрена. Никто не вправе препятствовать человеку, имеющему право на смерть, в осуществлении данного права - в том числе и государство, которое является гарантом в реализации прав и свобод человека. Государство, отказывая человеку в праве на смерть, ограничивает его свободу, превращает право на жизнь в обязанность жить.
На мой взгляд, запрет эвтаназии неконституционен. Он противоречит принципам обеспечения свободы и человеческого достоинства. В то же время государство в отдельных случаях все же признает право своих граждан на смерть, предоставляя им возможность подвергать себя значительному риску, сопряженному с угрозой жизни. Например, высока степень риска каскадеров, испытателей, лиц, проводящих различные научные эксперименты, и т.п.
Наиболее горячие споры вызывает морально-нравственный аспект эвтаназии. Нравственно ли вообще прерывать жизнь даже тяжело больного и страдающего человека? Не противоречит ли идея эвтаназии самой сути медицинской профессии, призванной прилагать все усилия для сохранения жизни человека?
Ряд авторов считают, что никто не волен лишать человека жизни, которая во всех случаях должна поддерживаться до естественного конца (см.: Бородин С.В., Глушков В.А. Убийство из сострадания // Общественные науки и современность. 1992. N 4. С. 144, 145). Против эвтаназии активно выступает и церковь. Представители различных конфессий утверждают, что жизнь, какой бы тяжелой она ни была, дается человеку свыше и не может быть насильственно прервана, а сознательный уход из жизни просто недопустим. По мнению буддистов, напротив, состояние человека в момент смерти является решающим для его посмертной судьбы, поэтому предпочтительнее, если человек умрет спокойно и без мучений. Как верно отмечает Ф. Фут, "не просто состояние быть живым может быть определено как благо или само по себе считаться им, а именно жизнь, доходящая до определенного стандарта нормальности" (Фут Ф. Эвтаназия // Философские науки. N 6. С. 69). В качестве морального обоснования целесообразности допустимости эвтаназии можно указать на то, что высшей ценностью является реальное благополучие человека. Не каждый неизлечимо больной имеет силы лежать парализованным, не обходиться без посторонней помощи и испытывать постоянные боли. Не у всех одинаковое представление о качестве жизни.
Иногда люди пытаются в таких ситуациях самостоятельно уйти из жизни, но зачастую попытки самоубийства оканчиваются неудачно, что сопровождается еще большими физическими и психическими страданиями. Нередко безнадежно больной человек, желая уйти из жизни, просто не в состоянии сделать это в силу недостатка духа либо в силу ограниченности в действиях из-за своей прикованности к постели. Думается, что в таких случаях пациент вправе отказаться от получения медицинской помощи и даже потребовать отключения жизнеобеспечивающих систем. Ведь, чувствуя себя плохо, человек имеет право отказаться от госпитализации и необходимой операции, и врачи не вправе навязать ему медицинскую помощь. А сколько известно случаев, когда врачи выписывают безнадежно больного домой, когда все средства излечения оказались безрезультатными. На практике медицинские работники нередко рекомендуют не принимать мер, продлевающих жизнь пациента, когда при неутешительных прогнозах процесс дегенерации уже вошел в необратимую стадию. Это еще раз подтверждает, что государство косвенно предоставляет право на пассивную эвтаназию.
Безнравственно и негуманно заставлять жить человека, который, умирая в мучениях, молит о смерти. И если жизнь уже не является благом, милосердие выскажется за ее прекращение. Если государство в лице органов здравоохранения не в состоянии облегчить мучения больного и попытаться приблизить качество его жизни к достойным условиям, то, как справедливо отмечают Ю. Дмитриев и Е. Шленева, отказ от эвтаназии может рассматриваться как применение к человеку пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, что запрещается статьей 21 Конституции РФ (см.: Дмитриев Ю.А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. N 11. С. 58, 59). К сожалению, в современной отечественной медицине совершенно не затрагиваются вопросы, связанные с оказанием помощи неизлечимо больным лицам, облегчением их страданий.
Сторонником эвтаназии был и А. Кони, который считал, что она допустима при наличии: сознательной и устойчивой просьбы больного; невозможности облегчить страдания известными способами; точной и несомненной доказанности невозможности спасти жизнь, установленной коллегией врачей при обязательном единогласии; предварительного уведомления прокуратуры (см.: Кони А.Ф. Собр. соч. в 8 томах. Т. 4. М., 1967. С. 503).
Основные аргументы противников эвтаназии таковы: при осуществлении эвтаназии возможны злоупотребления со стороны заинтересованных лиц; медицинская наука и практика не гарантированы от диагностических ошибок; возможно изобретение нового препарата, способного спасти жизнь пациента.
Не думаю, однако, что это достаточные доводы для запрета эвтаназии: злоупотребления возможны в любой области общественных отношений. Минимизировать их - задача законодательства.
Как отмечают Ю. Дмитриев и Е. Шленева, биолого-медицинский аспект эвтаназии состоит в том, чтобы точно определить круг пациентов, которым она может быть показана. Среди таких пациентов - лица, находящиеся в устойчивом вегетативном состоянии. При современных методах диагноза факт гибели мозга можно установить достаточно точно. Необходимо, чтобы диагноз устанавливался несколькими независимыми специалистами и все медицинские средства оказались исчерпанными. Что касается возможности изобретения нового аппарата либо открытия каких-то препаратов, способных спасти жизнь пациента, то это обстоятельство для такого пациента уже не играет существенной роли.
В литературе приводился пример, когда Декретом от 1 сентября 1939 г. в рамках программы "Эвтаназия" в гитлеровской Германии 275 тыс. умственно отсталых и психически больных людей были отправлены в газовые камеры. Но здесь следует отметить, что принудительное лишение жизни ни при каких обстоятельствах нельзя признавать эвтаназией, ибо эвтаназия - это лишение жизни безнадежно больного прежде всего при наличии устойчивой и сознательной о том просьбы. Вообще согласие пациента на любое медицинское вмешательство следует считать главным критерием клинических взаимоотношений. Безусловно, пациент должен быть способен понять информацию о своем здоровье, возможных методах лечения и последствиях, а также вправе после консультаций со специалистами принять решение о согласии или отказе от соответствующего решения, включая и согласие на эвтаназию.
Необходимо предусмотреть процедуры, которые защищали бы людей от принуждения дачи согласия на эвтаназию и исключили бы возможность различных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. Применение эвтаназии должно быть не только законодательно разрешено, но и обеспечено определенными правовыми гарантиями со стороны государства, его органов и должностных лиц и иметь весьма жесткую регламентацию.
Опасность злоупотреблений требует чрезвычайной осторожности в практических вопросах эвтаназии. Но это не значит, что следует принципиально от нее отказаться.
На мой взгляд, необходимо принятие федерального закона об эвтаназии, который бы юридически закрепил правомерность эвтаназии и регламентировал порядок и условия ее применения. В связи с чем представляется целесообразным дополнить главу 8 УК РФ "Обстоятельства, исключающие преступность деяния" новой статьей - "Эвтаназия". В то же время следует установить уголовную ответственность за нарушение условий ее правомерного применения. Состав такого преступления можно было бы сформулировать следующим образом:
"Статья 108. Убийство из сострадания к потерпевшему или по его настоянию
Умышленное лишение жизни человека из сострадания к нему или по его настоянию с нарушением установленных законом условий и порядка правомерной эвтаназии - наказывается..."
С. Тасаков,
доцент Чувашского госуниверситета
"Российская юстиция", N 2, февраль 2003 г.
-
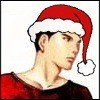
Виктор - a.k.a. FaUsT
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: Чт 17.04.2003, 2:13
- Откуда: Иркутск
Виктор. Вы привели множество цитат из различной юридической литературы – безусловно, приятно осознавать, что в нашей стране есть такие эрудированные люди, как вы. Да и что государство так заботиться о нас, грешных, так охраняет нашу жизнь. Только вот как-то не легче от этого всем тем, кто лежит сейчас на больничной койке и мучается.
Эвтаназия имеет много противников, считающих, что процедуру эту несколько неэтичной либо аморальной – но все мы имеем право на свободу вероисповедания, а у каждой религии моральные нормы свои. Так дайте людям самим выбрать. Не нужно навешивать какие-то стереотипы. Дайте же человеку самому решить. В конце концов, законодательство РФ еще не установило рамки морали.
Безусловно, возможны и такие случаи, когда больного могут принуждать либо подталкивать к эвтаназии, но: «Необходимо предусмотреть процедуры, которые защищали бы людей от принуждения дачи согласия на эвтаназию и исключили бы возможность различных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. »(с) – именно в этом и должна заключатся задача государства и законодательства.
Пожалуй, разработанные М.Н. Малеиной пункты наиболее соответствуют тому, что можно было бы назвать правом подростка на смерть (хотя, это сугубо мое мнение). Взрослые же люди (при условии их вменяемости) в праве сами распоряжаться своей жизнью.
С Долецким я бы поспорила – тут уже вопрос должен решаться самыми близкими родственниками.
Как уже было замечено Тасаковым – проблема эта обсуждается в России уже около 20 лет, только особых результатов мы так и не увидели. В истории нашей страны были времена, когда смертная казнь была узаконена, при Сталине расстрелы были обычным делом, но почему-то мы никак не хотим признать право человека на добровольную смерть. В то же самое время мы видим, как врачи нередко просто не оказывают необходимой помощи пациентам: либо не хватает средств, либо пациент и в самом деле безнадежен. Доподлинно известны случаи, когда медработники проводили реанимацию таким образом, что пациент просто не мог быть реанимирован (к примеру, попытки одного врача вернуть пациента к жизни при помощи искусственного дыхания и массажа сердца. Проводимых на диване. Таким образом, легкие пациента никоим образом не вентилировались – ведь вместо продавливания грудной клетки продавливалась мягкая обивка дивана – и вся эта процедура продолжалась около 30 минут. Вы скажете, что врач не знал о том, что подобные меры реанимации необходимо проводить только на твердых ровных поверхностях?! Или случаи, когда врачи скорой помощи говорят людям, только что перенесшим инфаркт – вставайте, идите в машину?? Да им даже разговаривать нельзя в течение часа! Не хочу сказать, что это относится ко всем врачам, но ведь есть и такие.) Нам не гарантируют правильную мед помощь в случае необходимости. Так почему же отказывают в праве на легкую смерть?
А раз у нас отнимают право на смерть, что же нам остается? Остается только жить.
Эвтаназия имеет много противников, считающих, что процедуру эту несколько неэтичной либо аморальной – но все мы имеем право на свободу вероисповедания, а у каждой религии моральные нормы свои. Так дайте людям самим выбрать. Не нужно навешивать какие-то стереотипы. Дайте же человеку самому решить. В конце концов, законодательство РФ еще не установило рамки морали.
Безусловно, возможны и такие случаи, когда больного могут принуждать либо подталкивать к эвтаназии, но: «Необходимо предусмотреть процедуры, которые защищали бы людей от принуждения дачи согласия на эвтаназию и исключили бы возможность различных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. »(с) – именно в этом и должна заключатся задача государства и законодательства.
Пожалуй, разработанные М.Н. Малеиной пункты наиболее соответствуют тому, что можно было бы назвать правом подростка на смерть (хотя, это сугубо мое мнение). Взрослые же люди (при условии их вменяемости) в праве сами распоряжаться своей жизнью.
С Долецким я бы поспорила – тут уже вопрос должен решаться самыми близкими родственниками.
Как уже было замечено Тасаковым – проблема эта обсуждается в России уже около 20 лет, только особых результатов мы так и не увидели. В истории нашей страны были времена, когда смертная казнь была узаконена, при Сталине расстрелы были обычным делом, но почему-то мы никак не хотим признать право человека на добровольную смерть. В то же самое время мы видим, как врачи нередко просто не оказывают необходимой помощи пациентам: либо не хватает средств, либо пациент и в самом деле безнадежен. Доподлинно известны случаи, когда медработники проводили реанимацию таким образом, что пациент просто не мог быть реанимирован (к примеру, попытки одного врача вернуть пациента к жизни при помощи искусственного дыхания и массажа сердца. Проводимых на диване. Таким образом, легкие пациента никоим образом не вентилировались – ведь вместо продавливания грудной клетки продавливалась мягкая обивка дивана – и вся эта процедура продолжалась около 30 минут. Вы скажете, что врач не знал о том, что подобные меры реанимации необходимо проводить только на твердых ровных поверхностях?! Или случаи, когда врачи скорой помощи говорят людям, только что перенесшим инфаркт – вставайте, идите в машину?? Да им даже разговаривать нельзя в течение часа! Не хочу сказать, что это относится ко всем врачам, но ведь есть и такие.) Нам не гарантируют правильную мед помощь в случае необходимости. Так почему же отказывают в праве на легкую смерть?
А раз у нас отнимают право на смерть, что же нам остается? Остается только жить.
"Всё должно быть по-честному — или не быть вообще. Потому-то ты сейчас и стоишь на краю, а я, которая предпочла верного врага лживому другу, всего лишь слегка ему помогаю. Совсем чуть-чуть. Но для победы порой достаточно и этого... "
(c) О. Громыко
(c) О. Громыко
-

Elka - постоялец
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: Чт 15.07.2004, 7:49
- Откуда: РПА
InCorpoReal Вопрос, если вы не заметили, заключался не в этом. Если вам вдруг просто захотелось умереть - с подругой там поругались, или просто надоела жизнь - это банальное самоубийство. Смысл эвтаназии заключается в том, чтоб облегчить страдания безнадежно больных/ обреченных людей. А те, кому просто умереть захотелось, никого не спрашивают - если не по дурости своей - то доводят до конца, большинство же вспоминают это, как глупые поступки. О таких людях Е. Евтушенко очень хорошее произведение написал - "Голубь в Сантьяго" - прочтите как-нибудь на досуге - весьма полезно. И еще: как мне казалось - здесь каждый просто высказывает свое мнение. Так что остаюсь при своем, чего и вам желаю.
"Всё должно быть по-честному — или не быть вообще. Потому-то ты сейчас и стоишь на краю, а я, которая предпочла верного врага лживому другу, всего лишь слегка ему помогаю. Совсем чуть-чуть. Но для победы порой достаточно и этого... "
(c) О. Громыко
(c) О. Громыко
-

Elka - постоялец
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: Чт 15.07.2004, 7:49
- Откуда: РПА
Что могу сказать?!
Могу сказать…неожиданно))..
Думала будет стоять топик…..покроется плесенью)))
А оказалось, что еще хоть кого-то интересуют подобные вопросы « о судьбах Росиии….и ее отдельных граждан»….
Приятно))….
InCorpoReal
<<<<В принципе эвтаназия вещь хорошая, при нынешнем перенаселении, да не даст людям портить генофонд>>>
Думаю , уважаемый вы маненько перепутали ))) это немного иное….вы спутали с Евгеникой.была такая наука, которая занималась чисткой бесполезного населения в целях улучшения генофонда, сохранения арийской расы…это что-то близкое фашизму))…
<<С другой стороны, если узаконить, посчитайте, чколько суицидетнов и лиц девиантного положения обраться к вам, чтобы "легально" покончить с жизнью?>> эфтаназия с самого изначального момента своего существования призвана к тому, что бы помогать лишь тем людям, которые уже не имеют шанса выжить( парализованы, смертельно больны, обречены)….которые даже сами не могут собственными руками лишить себя смерти( поверь мне , если бы у них был возможность, то они бы это сделали..) То , о чем пишешь ты, здесь не актуально….ясно понятно, что это придумано не для здоровых и молодых мужчин и женщин, которым просто надоело жить))….там другое понятие. «суицид…»
<<<.." Пускай остаётся евтаназия нелегальной, смертей и так хватает>>> благодаря эвтаназии количество смертей не увеличится….потому что все эти люди итак умрут…..благодаря этому лишь облегчатся муки страждущих…..
я думала ты знаешь, а ты все в кучу собрал,…
sektor
Дима. Извини, но ты совсем не в теме…
Я же сразу написала, что это не нуждающихся.для тех, кто раньше нормально жил, работал, учился, а потом просто заболел неизлечимой болезнью….но смерть к нему наступает не сразу, а в мучениях, в пытках….
То что ты пишешь про психов , Даунов….мне это напоминает многоуважаемого господина Владимира Вольфовича…..тот тоже кричал, что нужно всех жидов и Даунов истрибить…..
Вот вы бы с ним напару больше половины России истребили))))))))…..
Никто никогда этого не будет делать, потому что такие люди сами не согласны умирать…..
А в эвтаназии больной молит о смерти……
ВикторА помнится кто-то когда-то говорил, что мол пользоваться чужими мыслями( это не касается статей, а касается ученых) не нужно….что нельзя прибегать к этакой мирской простоте…..что нужно во всем иметь свое мнение.хм….среди этих всех листов писанины не увидела ни одной твоей собственной мысли и тем более собственной позиции….сдаете позиции?)))))))))
Это во-первых…
Во-вторых спасибо за то что засрали мне топик….
В третьих, <<<Ну, теперь, думаю, мы продолжим данную дискуссию где-то через неделю... *в лучшем случае* >>>Недели не пройдет, поскольку читать это никто не будет..и вы как всегда создали людям лишнюю работу…по перекручиванию страницы….
В четвертых, <<<Думаю неуместно обсуждать Эвтаназию только с позиции личного отношения каждого из нас...>>>
Ну так то да.конечно….если мы еще при этом выложим юридические доводы, то нас сразу заметят …заметят в думе.и в других вышестоящих инстанциях и примут меры…к чему смешить народ?
В пятых, <<<Прочтите и обсудим... если же вы не созрели до столь подробного обсуждения... ну что же... я не буду навязываться, буду как всегда корки мочить...>.. а я думала , что вам сейчас не док корок…..наверное, как всегда ошибалась….
Могу сказать…неожиданно))..
Думала будет стоять топик…..покроется плесенью)))
А оказалось, что еще хоть кого-то интересуют подобные вопросы « о судьбах Росиии….и ее отдельных граждан»….
Приятно))….
InCorpoReal
<<<<В принципе эвтаназия вещь хорошая, при нынешнем перенаселении, да не даст людям портить генофонд>>>
Думаю , уважаемый вы маненько перепутали ))) это немного иное….вы спутали с Евгеникой.была такая наука, которая занималась чисткой бесполезного населения в целях улучшения генофонда, сохранения арийской расы…это что-то близкое фашизму))…
<<С другой стороны, если узаконить, посчитайте, чколько суицидетнов и лиц девиантного положения обраться к вам, чтобы "легально" покончить с жизнью?>> эфтаназия с самого изначального момента своего существования призвана к тому, что бы помогать лишь тем людям, которые уже не имеют шанса выжить( парализованы, смертельно больны, обречены)….которые даже сами не могут собственными руками лишить себя смерти( поверь мне , если бы у них был возможность, то они бы это сделали..) То , о чем пишешь ты, здесь не актуально….ясно понятно, что это придумано не для здоровых и молодых мужчин и женщин, которым просто надоело жить))….там другое понятие. «суицид…»
<<<.." Пускай остаётся евтаназия нелегальной, смертей и так хватает>>> благодаря эвтаназии количество смертей не увеличится….потому что все эти люди итак умрут…..благодаря этому лишь облегчатся муки страждущих…..
я думала ты знаешь, а ты все в кучу собрал,…
sektor
Дима. Извини, но ты совсем не в теме…
Я же сразу написала, что это не нуждающихся.для тех, кто раньше нормально жил, работал, учился, а потом просто заболел неизлечимой болезнью….но смерть к нему наступает не сразу, а в мучениях, в пытках….
То что ты пишешь про психов , Даунов….мне это напоминает многоуважаемого господина Владимира Вольфовича…..тот тоже кричал, что нужно всех жидов и Даунов истрибить…..
Вот вы бы с ним напару больше половины России истребили))))))))…..
Никто никогда этого не будет делать, потому что такие люди сами не согласны умирать…..
А в эвтаназии больной молит о смерти……
ВикторА помнится кто-то когда-то говорил, что мол пользоваться чужими мыслями( это не касается статей, а касается ученых) не нужно….что нельзя прибегать к этакой мирской простоте…..что нужно во всем иметь свое мнение.хм….среди этих всех листов писанины не увидела ни одной твоей собственной мысли и тем более собственной позиции….сдаете позиции?)))))))))
Это во-первых…
Во-вторых спасибо за то что засрали мне топик….
В третьих, <<<Ну, теперь, думаю, мы продолжим данную дискуссию где-то через неделю... *в лучшем случае* >>>Недели не пройдет, поскольку читать это никто не будет..и вы как всегда создали людям лишнюю работу…по перекручиванию страницы….
В четвертых, <<<Думаю неуместно обсуждать Эвтаназию только с позиции личного отношения каждого из нас...>>>
Ну так то да.конечно….если мы еще при этом выложим юридические доводы, то нас сразу заметят …заметят в думе.и в других вышестоящих инстанциях и примут меры…к чему смешить народ?
В пятых, <<<Прочтите и обсудим... если же вы не созрели до столь подробного обсуждения... ну что же... я не буду навязываться, буду как всегда корки мочить...>.. а я думала , что вам сейчас не док корок…..наверное, как всегда ошибалась….
Облик нежный, стан твой стройный –Дьявол во плоти. Женщина опять ты встала на моем пути . И рассудок помутился. Боже Упаси. Нет никто меня не сможет от тебя спасти….Ты, Ты, Ты – Дьявол во плоти……
-

Дрянь - постоялец
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср 2.06.2004, 0:11
Elka срасибо за моё мнение... Продолжу пребывать в заблуждении... Мне кажется, что и увас предвзятое мнение, где прописан критерий душевного страдания? Вы обозвали мою смерть банальной, почему же смерть больного не бональна? Тоже не известно, когда коньки отбросит. Зачем ждать и гдать, давайте уж сразу прихлопнем, чтобы не мешал и жалость не вызывал. В этом смысле эвтаназия в роли способа отмахнутся. Безнадёжных людей нет. Облегчить страдание можно и другим способом, не обезательно простым и лёгким идти ведь. Не хотите уделять внимание и финансовые средства на больного? - прикончим его! Не придётся ждать пока старуха сдохнет и сразу оформить на себя прописку.
Я всёже за нелегальную эвтаназию, потомучто убивать по закону возвращает нас в средневековье. В конце концов можно заменить на передачу тела опытам, эффект тот же.Возможно я и заблуждаюсь. Для России эвтаназия точно не нужна,ИМХО.
Дрянь Как ты представляешь легализованную эвтыназию? Это некий ларёк на подобие Аптеки чтоль? Зашёл уколося и уснул? Тогда сам смысл лечения потеряет смысл. Гепатита тоже боялись, боялись и туберкулёза, да даже даунизм. И что? Всех убить по их желанию? А они чуток подождали и дождались лечения. Про сибирского рекордсмена Гинесса слыхали? Ему медведь пол-лица откусил урод и прочее... ни лица ничего. Ему за полгода востановили лицо! Ладно так, а дауны и люди психически-девиантного поведения им смертную казнь устроить? Ладно не те примеры. Вот пример: кома. Человек парализован, постоянно плачет, потом взгрустнул и сам умер - установку дал себе. Так если бы он подождал, то может бы дождался исследования в стволовых клетках. Авось бы ему вернули радость движения? А нет, ему сказали ты безнадёжен и убили в нём веру.
P.S.: продолжаю заблуждаться поправьте меня...
Я всёже за нелегальную эвтаназию, потомучто убивать по закону возвращает нас в средневековье. В конце концов можно заменить на передачу тела опытам, эффект тот же.Возможно я и заблуждаюсь. Для России эвтаназия точно не нужна,ИМХО.
Дрянь Как ты представляешь легализованную эвтыназию? Это некий ларёк на подобие Аптеки чтоль? Зашёл уколося и уснул? Тогда сам смысл лечения потеряет смысл. Гепатита тоже боялись, боялись и туберкулёза, да даже даунизм. И что? Всех убить по их желанию? А они чуток подождали и дождались лечения. Про сибирского рекордсмена Гинесса слыхали? Ему медведь пол-лица откусил урод и прочее... ни лица ничего. Ему за полгода востановили лицо! Ладно так, а дауны и люди психически-девиантного поведения им смертную казнь устроить? Ладно не те примеры. Вот пример: кома. Человек парализован, постоянно плачет, потом взгрустнул и сам умер - установку дал себе. Так если бы он подождал, то может бы дождался исследования в стволовых клетках. Авось бы ему вернули радость движения? А нет, ему сказали ты безнадёжен и убили в нём веру.
P.S.: продолжаю заблуждаться поправьте меня...
Последний раз редактировалось InCorpoReal Вс 9.01.2005, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
-

InCorpoReal - постоялец
- Сообщения: 522
- Зарегистрирован: Сб 28.02.2004, 7:23
- Откуда: Иркутск-Москва-Иркутск
InCorpoReal
Бедняжка, сАвсем запутался... читай статьи! =) там есть ряд отграничений, которые позволят тебе получить полное представление об эвтаназии... а ты её путаешь то с убийством в корыстных целях, то со "способом отмахнуться", то вообще в крайности впадаешь...
*ты спрашивал где напортачил за вчера... так вот, тут и напортачил =)*
напоследок: девиантное поведение - поведение, противоречащее принятым в обществе правовым и (или) нравственным нормам, включая общественно опасное поведение...
А то ты либо мысль неправильно сформулировал, либо слово перепутал... т.к. людей с девиантным поведением оЧЧень много, поверь мне =)
Остальное комментировать не буду... я ещё не научился тебя с полуслова понимать... всё как-то скомкано... Разберись!
Elka[/b]
Со мной такое редко случается, но я не заметил ваш пост на предыдущей страницы, обращённый ко мне...
Мораль - внеправовая категория... законодатель не будет устанавливать рамки морали, ибо она чрезвычайно изменчива, да и нет необходимости...
Думаю, что стоит создать закрытый перечень, вот только на кого можно возложить столь трудную задачу? на министерство здравоохранения? не думаю... слишком уж это важный вопрос... на парламент? ... слишком долго будут вноситься изменения... Наверное ст0ило бы создать квалификационную комиссию из наиболее видных теоретиков и практиков... Но кому это нужно? Нашему государству ведь не до этого...
Об остальном позже... экзамены, мать их...
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ: прочитайте хоть вторую статью... Тасакова... у вас минут 15 отсилы уйдёт...
Дрянь
Данные статьи отражают мою точку зрения, я согласен со всем, сказанным там, ну почти со всем. Можно говорить, про эвтаназию ВООБЩЕ, но мы живём в России, а не в Нидерландах и так уж получилось, что есть ряд проблем, мешающих осуществлению эвтаназии. Цель данных статей, выложенных мною в том, чтобы прервать бесполезные высказывания некоторых посетителей и поговорить РЕАЛЬНО ОБ ЭВТАНАЗИИ.
*почему "кто-то"...? я это говорил...
Идея была в том, что не нужно прикрываться чужим мнением! я им не прикрываюсь... я его пока что не высказал... думаю слишком рано...
Уже читают... поверь мне...
Ну а даже если эти статьи остануться без внимания, ну что же... кто в этом мире не ошибается?
Так уж получилось, что я юрист-недоучка... а вы - психолог... Ну осветите нам данную проблему с психологической точки зрения, я с удовольствием вас поддержу...
PS: переписывал данное сообщение раз 10, вырезая каждый раз по строчке, дабы не обидеть тебя, милая Женечка...
Бедняжка, сАвсем запутался... читай статьи! =) там есть ряд отграничений, которые позволят тебе получить полное представление об эвтаназии... а ты её путаешь то с убийством в корыстных целях, то со "способом отмахнуться", то вообще в крайности впадаешь...
*ты спрашивал где напортачил за вчера... так вот, тут и напортачил =)*
напоследок: девиантное поведение - поведение, противоречащее принятым в обществе правовым и (или) нравственным нормам, включая общественно опасное поведение...
А то ты либо мысль неправильно сформулировал, либо слово перепутал... т.к. людей с девиантным поведением оЧЧень много, поверь мне =)
Остальное комментировать не буду... я ещё не научился тебя с полуслова понимать... всё как-то скомкано... Разберись!
Elka[/b]
Со мной такое редко случается, но я не заметил ваш пост на предыдущей страницы, обращённый ко мне...
законодательство РФ еще не установило рамки морали
Мораль - внеправовая категория... законодатель не будет устанавливать рамки морали, ибо она чрезвычайно изменчива, да и нет необходимости...
Необходимо предусмотреть процедуры, которые защищали бы людей от принуждения дачи согласия на эвтаназию и исключили бы возможность различных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц.
Как отмечают Ю. Дмитриев и Е. Шленева, биолого-медицинский аспект эвтаназии состоит в том, чтобы точно определить круг пациентов, которым она может быть показана.
Думаю, что стоит создать закрытый перечень, вот только на кого можно возложить столь трудную задачу? на министерство здравоохранения? не думаю... слишком уж это важный вопрос... на парламент? ... слишком долго будут вноситься изменения... Наверное ст0ило бы создать квалификационную комиссию из наиболее видных теоретиков и практиков... Но кому это нужно? Нашему государству ведь не до этого...
Об остальном позже... экзамены, мать их...
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ: прочитайте хоть вторую статью... Тасакова... у вас минут 15 отсилы уйдёт...
Дрянь
Данные статьи отражают мою точку зрения, я согласен со всем, сказанным там, ну почти со всем. Можно говорить, про эвтаназию ВООБЩЕ, но мы живём в России, а не в Нидерландах и так уж получилось, что есть ряд проблем, мешающих осуществлению эвтаназии. Цель данных статей, выложенных мною в том, чтобы прервать бесполезные высказывания некоторых посетителей и поговорить РЕАЛЬНО ОБ ЭВТАНАЗИИ.
кто-то когда-то говорил, что мол пользоваться чужими мыслями( это не касается статей, а касается ученых) не нужно…
*почему "кто-то"...? я это говорил...
Идея была в том, что не нужно прикрываться чужим мнением! я им не прикрываюсь... я его пока что не высказал... думаю слишком рано...
читать это никто не будет...
Уже читают... поверь мне...
Ну а даже если эти статьи остануться без внимания, ну что же... кто в этом мире не ошибается?
Ну так то да.конечно….если мы еще при этом выложим юридические доводы, то нас сразу заметят …заметят в думе.и в других вышестоящих инстанциях и примут меры…к чему смешить народ?
Так уж получилось, что я юрист-недоучка... а вы - психолог... Ну осветите нам данную проблему с психологической точки зрения, я с удовольствием вас поддержу...
PS: переписывал данное сообщение раз 10, вырезая каждый раз по строчке, дабы не обидеть тебя, милая Женечка...
-
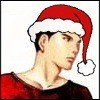
Виктор - a.k.a. FaUsT
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: Чт 17.04.2003, 2:13
- Откуда: Иркутск
Ощущение такое, что многие из высказывавшихся ранее уже имели столкновения, а теперь просто использую возможность "погрызться".
Виктор Я прочитала все, цитированое вами выше. Не скажу, чтоб была в восторге от объема информации, но все же спасибо. Хотелось бы услышать ваше личное мнение относительно темы, так рьяно вами скрываемое.
InCorpoReal Действительно, вы что-то путаете очень многие понятия. Просто поставьте себя на место человека, которому жить отсалась неделя. причем это уже не жизнь, а весьма болезненное существование. (Извините, если вы не знали, но боль у больных раком на последних стадиях практически ничем невозможно заглушить.) Я сомневаюсь, что за неделю вдруг кто-то изобретет чудо-лекарство, оно пройдет испытания, попадет на рынок и будет реализовано по доступной цене... ну, не вериться просто. С больными. находящимися в коме уже сложнее. Но ведь и реч-то шла вовсе не о том, чтобы всех заболевших людей убивать.
Виктор Я прочитала все, цитированое вами выше. Не скажу, чтоб была в восторге от объема информации, но все же спасибо. Хотелось бы услышать ваше личное мнение относительно темы, так рьяно вами скрываемое.
InCorpoReal Действительно, вы что-то путаете очень многие понятия. Просто поставьте себя на место человека, которому жить отсалась неделя. причем это уже не жизнь, а весьма болезненное существование. (Извините, если вы не знали, но боль у больных раком на последних стадиях практически ничем невозможно заглушить.) Я сомневаюсь, что за неделю вдруг кто-то изобретет чудо-лекарство, оно пройдет испытания, попадет на рынок и будет реализовано по доступной цене... ну, не вериться просто. С больными. находящимися в коме уже сложнее. Но ведь и реч-то шла вовсе не о том, чтобы всех заболевших людей убивать.
angel of..... death...
-

Kresta - Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн 10.01.2005, 0:00
InCorpoReal
напрягает по несколько раз писать одно и то же....
так что читай сообщения Виктора и Кресты...там все четко сказано....зачем посторяться....
Виктор
читай сообщение адресованное мной Саше, которое чуть выше ( первая строяка) целую....
целую....
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: круто! давайте обосрем друг друга! и вместе с этим заодно расстреляем всех дайнов и психов..и всех лиц с дивиантным поведением))...
и вымрем все нах.....
вот так всегда в нашем государстве....
все говорят об одном и том же, но на разных языках...в итоге все цапаются , поскольку не могут понять языка своего оппонента....один мыслит психологическим языком, третий юридическим, четвертый вообще житейским.....а в итоге никакой помощи никому....пусть страждущие корчатся в муках.....
это как бы репрезентация маленького сообщества на большое...
что и требовалось доказать......
напрягает по несколько раз писать одно и то же....
так что читай сообщения Виктора и Кресты...там все четко сказано....зачем посторяться....
Виктор
читай сообщение адресованное мной Саше, которое чуть выше ( первая строяка)
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: круто! давайте обосрем друг друга! и вместе с этим заодно расстреляем всех дайнов и психов..и всех лиц с дивиантным поведением))...
и вымрем все нах.....
вот так всегда в нашем государстве....
все говорят об одном и том же, но на разных языках...в итоге все цапаются , поскольку не могут понять языка своего оппонента....один мыслит психологическим языком, третий юридическим, четвертый вообще житейским.....а в итоге никакой помощи никому....пусть страждущие корчатся в муках.....
это как бы репрезентация маленького сообщества на большое...
что и требовалось доказать......
Облик нежный, стан твой стройный –Дьявол во плоти. Женщина опять ты встала на моем пути . И рассудок помутился. Боже Упаси. Нет никто меня не сможет от тебя спасти….Ты, Ты, Ты – Дьявол во плоти……
-

Дрянь - постоялец
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср 2.06.2004, 0:11
отношусь положительно...
Виктор (часть увы не смогла прочесть, времени не хватает) у тебя есть ссылка или скажи авторов (книги) с которых взята информация, уж больно заинтересовала меня эта тема... (заранее благодарна...)
(заранее благодарна...)
Виктор (часть увы не смогла прочесть, времени не хватает) у тебя есть ссылка или скажи авторов (книги) с которых взята информация, уж больно заинтересовала меня эта тема...
СМЕРТЬ - это счастье для умирающего человека. Умирая, перестаешь быть смертным....
Все в жизни можно исправить, кроме СМЕРТИ (те. меня)
Все в жизни можно исправить, кроме СМЕРТИ (те. меня)
-

СМЕРТЬ_в_юбке - МИРаж ЖИЗНИ
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: Ср 11.08.2004, 14:25
Верховный суд Великобритании приговорил девятимесячного младенца к смерти. По решению судьи медики отключили ребенка от аппарата искусственного поддержания жизни вопреки просьбам родителей. Врачи уверены, что шансов выжить у него не было.
Девятимесячный малыш, имя которого не разглашается, родился с митохондриальным заболеванием - у него были нарушены обмен веществ и дыхание. Дети, страдающие этой болезнью, обычно живут не более двух месяцев, и лишь 10% из них имеют шанс прожить больше года. Почти всю недолгую жизнь мальчик провел в отделении интенсивной терапии: с трехнедельного возраста он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи госпиталя, где находился ребенок, обратились в суд с просьбой прервать лечение. По их словам, мальчик долго бы не протянул, а жизнь его была невыносимой. Верховный суд Великобритании постановил, что медики имеют право не продлевать жизнь ребенка. Апелляцию, поданную родителями младенца, суд отклонил. Согласно британскому законодательству, судьи имеют право принимать решения подобного рода. Хотя специального закона, регулирующего этот аспект, нет, такая практика существует.
Впервые врачам разрешили не реанимировать ребенка в 2004 году. Тогда одиннадцатимесячную Шарлотту Уайэт, родившуюся с тяжелым поражением сердца и легких, должны были отключить от аппаратов в случае клинической смерти. Сначала родители согласились с решением суда, но затем состояние девочки улучшилось, и они подали апелляцию. Им удалось убедить суд сохранить ребенку жизнь. Сейчас пятилетняя Шарлотта готовится пойти в школу.
Где могут убивать по закону
Эвтаназия легализована только в Нидерландах, Бельгии и двух штатах США - Орегоне и Вашингтоне.
В Швеции и Финляндии добровольная смерть не считается противозаконной.
В Швейцарии до сих пор нет закона об эвтаназии, но человек, который помог другому добровольно уйти из жизни, не является преступником. Однако для того, чтобы отключить неизлечимого больного от аппаратов жизнеобеспечения, в этих странах разрешения родственников не требуется.
Случаи с намеренным лишением жизни детей нигде особенно не регламентируются. Только в Голландии существует протокол, согласно которому разрешение на эвтаназию должны дать родители ребенка. Согласно опросам, 2-4% врачей Великобритании, Италии, Испании, Германии, Франции и Швеции вводили умерщвляющие препараты детям без постановления суда, но с разрешения родителей ребенка.
Что думаете Вы на предмет эвтаназии?
Девятимесячный малыш, имя которого не разглашается, родился с митохондриальным заболеванием - у него были нарушены обмен веществ и дыхание. Дети, страдающие этой болезнью, обычно живут не более двух месяцев, и лишь 10% из них имеют шанс прожить больше года. Почти всю недолгую жизнь мальчик провел в отделении интенсивной терапии: с трехнедельного возраста он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи госпиталя, где находился ребенок, обратились в суд с просьбой прервать лечение. По их словам, мальчик долго бы не протянул, а жизнь его была невыносимой. Верховный суд Великобритании постановил, что медики имеют право не продлевать жизнь ребенка. Апелляцию, поданную родителями младенца, суд отклонил. Согласно британскому законодательству, судьи имеют право принимать решения подобного рода. Хотя специального закона, регулирующего этот аспект, нет, такая практика существует.
Впервые врачам разрешили не реанимировать ребенка в 2004 году. Тогда одиннадцатимесячную Шарлотту Уайэт, родившуюся с тяжелым поражением сердца и легких, должны были отключить от аппаратов в случае клинической смерти. Сначала родители согласились с решением суда, но затем состояние девочки улучшилось, и они подали апелляцию. Им удалось убедить суд сохранить ребенку жизнь. Сейчас пятилетняя Шарлотта готовится пойти в школу.
Где могут убивать по закону
Эвтаназия легализована только в Нидерландах, Бельгии и двух штатах США - Орегоне и Вашингтоне.
В Швеции и Финляндии добровольная смерть не считается противозаконной.
В Швейцарии до сих пор нет закона об эвтаназии, но человек, который помог другому добровольно уйти из жизни, не является преступником. Однако для того, чтобы отключить неизлечимого больного от аппаратов жизнеобеспечения, в этих странах разрешения родственников не требуется.
Случаи с намеренным лишением жизни детей нигде особенно не регламентируются. Только в Голландии существует протокол, согласно которому разрешение на эвтаназию должны дать родители ребенка. Согласно опросам, 2-4% врачей Великобритании, Италии, Испании, Германии, Франции и Швеции вводили умерщвляющие препараты детям без постановления суда, но с разрешения родителей ребенка.
Что думаете Вы на предмет эвтаназии?
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды...
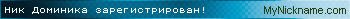
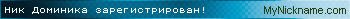
-

Доминика - постоялец
- Сообщения: 1476
- Зарегистрирован: Сб 5.05.2007, 19:21
- Откуда: Иркутск
Сколько соплей.
У вас все в Вашем посте перепуталось...
Причем тут начало поста и эвтаназия?
У вас все в Вашем посте перепуталось...
Причем тут начало поста и эвтаназия?
-

DorG - постоялец
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: Вт 29.05.2007, 20:10
- Откуда: Иркутск
-

спонсор
Сообщений: 34
| Страница 1 из 2 | 1, 2
- Порт Иркутск ‹ Форум ‹ Общение ‹ О жизни


