Евгений Евтушенко
Качался старый дом, в хорал слагая скрипы,
и нас, как отпевал, отскрипывал хорал.
Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно
в нем умирала ты, и я в нем умирал.
"Постойте умирать!"- звучало ржанье с луга,
в протяжном вое псов и сосенной волшбе,
но умирали мы навеки для друг друга,
а это все равно, что умирать вообще.
А как хотелось жить! По соснам дятел чокал,
и бегал еж ручной в усадебных грибах,
и ночь плыла, как пес, косматый, мокрый, черный,
кувшинкою речной держа звезду в зубах.
Дышала мгла в окно малиною сырою,
а за моей спиной - все видела спина! -
с платоновскою Фро, как с найденной сестрою,
измученная мной, любимая спала.
Я думал о тупом несовершенстве браков,
о подлости всех нас - предателей, врунов,
ведь я тебя любил, как сорок тысяч братьев,
и я тебя губил, как столько же врагов.
Да, стала ты другой. Твой злой прищур нещаден,
насмешки над людьми горьки и солоны.
Но кто же, как не мы, любимых превращает
в таких, каких любить уже не в силах мы?
Какая же цена ораторскому жару,
когда, расшвырян вдрызг по сценам и клише,
хотел я счастье дать всему земному шару,
а дать его не смог - одной живой душе?!
Да, умирали мы, но что-то мне мешало
уверовать в твое, в мое небытие.
Любовь еще была. Любовь еще дышала
на зеркальце в руках у слабых уст ее.
Качался старый дом, скрипел среди крапивы,
и выдержку свою нам предлагал взаймы.
В нем умирали мы, но были еще живы.
Еще любили мы, и, значит, были мы.
Когда-нибудь потом (не дай мне бог,не дай мне!),
когда я разлюблю, когда и впрямь умру,
то будет плоть моя, ехидничая втайне,
"Ты жив!" мне по ночам нашептывать в жару.
Но в суете страстей, печально позжний умник,
внезапно я пойму, что голос плоти лжив,
и так себе скажу: "Я разлюбил. Я умер.
Когда-то я любил. Когда-то я был жив".
***
Александр Блок
Превратила все в шутку сначала,
Поняла - принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.
И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно все позабыв.
Вдруг припомнила все - зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навеки ушла...
Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое. -
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?
Любимые стихи :-)
Мой милый, ты - мой идеал, но мужиков других никто не отменял!
-

Arina - постоялец
- Сообщения: 2834
- Зарегистрирован: Пн 26.04.2004, 6:58
- Откуда: Иркутск...
Побудь со мной рядом,
Позволь мне остаться,
Позволь мне остаться с тобой.
И времени много,
И надо прощаться,
Но как это трудно порой.
Искать тебя где-то
В толпе многоликой
И знать, что тебя рядом нет...
Мы будем едины,
Я верю, любимый,
Что будет счастливым рассвет.
Пусть стрелки часов
Остановятся тихо,
И время убавит свой бег -
Я так не хочу от тебя отрываться
Мой милый, родной человек.
Позволь мне остаться,
Позволь мне остаться с тобой.
И времени много,
И надо прощаться,
Но как это трудно порой.
Искать тебя где-то
В толпе многоликой
И знать, что тебя рядом нет...
Мы будем едины,
Я верю, любимый,
Что будет счастливым рассвет.
Пусть стрелки часов
Остановятся тихо,
И время убавит свой бег -
Я так не хочу от тебя отрываться
Мой милый, родной человек.
"Женщина не может быть гениальной, это - декоративный пол." (Оскар Уайлд)
----------------------------------------------------
Одиночество-когда ждешь, что кто-то позвонит... и звонит будильник.
----------------------------------------------------
Одиночество-когда ждешь, что кто-то позвонит... и звонит будильник.
-

Kcekc - постоялец
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: Вт 19.07.2005, 22:46
- Откуда: Иркутск
Расстались мы с тобой и мир покрылся мраком
и хочется уйти забыться раствориться
И боль в душе терзает убивает и думаешь проститься с этим миром и обрести покой !
Но разум мой твердит Оставь покой беги живи люби и будь любимым ведь время лечит и пройдет тоска
и будешь счаслив ты еще не раз !
Любовь найдешь забудешь все печали
и беды все твои уйдут на веке прочь !
автор M.A.X
и хочется уйти забыться раствориться
И боль в душе терзает убивает и думаешь проститься с этим миром и обрести покой !
Но разум мой твердит Оставь покой беги живи люби и будь любимым ведь время лечит и пройдет тоска
и будешь счаслив ты еще не раз !
Любовь найдешь забудешь все печали
и беды все твои уйдут на веке прочь !
автор M.A.X
-

M.A.X - Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Ср 27.04.2005, 0:58
Я не люблю Вас и люблю
На Вас молюсь и проклинаю
Не видеть Вас я не могу
Но встречи с Вами избегаю
Вы так наивны, так умны
Вы так низки и так высоки
Вы так земны и неземны
Вы так близки и так далеки
Вы - сладкий яд, Вы - горький мед
Вы - божество, Вы - сущий дьявол
Вас ищу, от Вас бегу
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
У Вас небесные черты
О нет, уродливая маска
Вы черно-белы, не цветны
Вы так грубы, в Вас столько ласки
На Вас воздушные шелка
Да нет же, жалкие лохмотья
Желанье знать Вас и не знать
В себе не в силах побороть я
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
На Вас молюсь и проклинаю
Не видеть Вас я не могу
Но встречи с Вами избегаю
Вы так наивны, так умны
Вы так низки и так высоки
Вы так земны и неземны
Вы так близки и так далеки
Вы - сладкий яд, Вы - горький мед
Вы - божество, Вы - сущий дьявол
Вас ищу, от Вас бегу
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
У Вас небесные черты
О нет, уродливая маска
Вы черно-белы, не цветны
Вы так грубы, в Вас столько ласки
На Вас воздушные шелка
Да нет же, жалкие лохмотья
Желанье знать Вас и не знать
В себе не в силах побороть я
Я не люблю Вас и люблю
Я не люблю Вас и люблю
Последний раз редактировалось Фотограф Пн 24.10.2005, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
______________________________________
http://studio-vr.com
http://studio-vr.com
-

Фотограф - постоялец
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: Пт 3.06.2005, 10:16
- Откуда: Иркутск
Смерть -
Не тушение света
Она -
Задуванье лампады
Потому что настал час рассвета...
Не тушение света
Она -
Задуванье лампады
Потому что настал час рассвета...
-
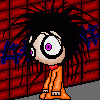
Лимонка~ - постоялец
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Пн 10.10.2005, 15:05
- Откуда: Иркутск~
С.Есенин
Корова
Дряхлая, выпали зубы..
Свиток годов на рогах
Бил ее выгонщик грубый
на перегонных полях
Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу о белоногом телке.
Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной шкуру трепал ветерок.
Скоро на гречневом свее
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее и поведут на убой.
Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Будет время - ещё одно любимое напишу...
Корова
Дряхлая, выпали зубы..
Свиток годов на рогах
Бил ее выгонщик грубый
на перегонных полях
Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу о белоногом телке.
Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной шкуру трепал ветерок.
Скоро на гречневом свее
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее и поведут на убой.
Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Будет время - ещё одно любимое напишу...
Ich bin - die, wer dir nötig!
-
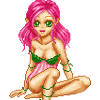
Куколка - постоялец
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: Пн 25.04.2005, 16:25
- Откуда: Иркутск
Надо мною тишина,
Небо полное дождя,
Дождь проходит сквозь меня,
Но боли больше нет.
Под холодный шепот звезд,
Мы сожгли последний мост,
И все в бездну сорвалось,
Свободным стану я
От зла и от добра,
Моя душа была на лезвии ножа.
Я бы мог с тобою быть,
Я бы мог про все забыть,
Я бы мог тебя любить,
Но это лишь игра.
В шуме ветра за спиной
Я забуду голос твой,
И о той любви земной,
Что нас сжигала в прах,
И я сходил с ума,
В моей душе нет больше места для тебя.
Я свободен,
Словно птица в небесах.
Я свободен,
Я забыл, что значит страх.
Я свободен
С диким ветром наравне,
Я свободен
Наяву, а не во сне.
Надо мною тишина,
Небо полное огня,
Свет проходит сквозь меня,
И я свободен вновь.
Я свободен от любви,
От вражды и от молвы,
От предсказанной судьбы,
И от земных оков,
От зла и от добра,
В моей душе нет больше места для тебя.
Небо полное дождя,
Дождь проходит сквозь меня,
Но боли больше нет.
Под холодный шепот звезд,
Мы сожгли последний мост,
И все в бездну сорвалось,
Свободным стану я
От зла и от добра,
Моя душа была на лезвии ножа.
Я бы мог с тобою быть,
Я бы мог про все забыть,
Я бы мог тебя любить,
Но это лишь игра.
В шуме ветра за спиной
Я забуду голос твой,
И о той любви земной,
Что нас сжигала в прах,
И я сходил с ума,
В моей душе нет больше места для тебя.
Я свободен,
Словно птица в небесах.
Я свободен,
Я забыл, что значит страх.
Я свободен
С диким ветром наравне,
Я свободен
Наяву, а не во сне.
Надо мною тишина,
Небо полное огня,
Свет проходит сквозь меня,
И я свободен вновь.
Я свободен от любви,
От вражды и от молвы,
От предсказанной судьбы,
И от земных оков,
От зла и от добра,
В моей душе нет больше места для тебя.
______________________________________
http://studio-vr.com
http://studio-vr.com
-

Фотограф - постоялец
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: Пт 3.06.2005, 10:16
- Откуда: Иркутск
Не прогляди на закате
Печального волка.
Пообещай оглядеться.
Написано мною почти десять лет тому.
До сих пор волнует
Печального волка.
Пообещай оглядеться.
Написано мною почти десять лет тому.
До сих пор волнует
-

филин - постоялец
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: Пт 28.10.2005, 22:18
- Откуда: Иркутск
Fallout Да я вообще обожаю Пастернака, а особенно "зимнюю ночь" это вообще круто что тебе нравиться, но еще мне нравиться Пушкин, безумно просто  Вот мой любимый отрывок из поэмы "Медный всадник":
Вот мой любимый отрывок из поэмы "Медный всадник":
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно (1),
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там,
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгой, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла ...
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно (1),
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там,
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгой, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла ...
Царица-куртизанка, злой гений Египта. Хитрая, жестокая, малодушная и коварная, строившая свое благополучие на несчастьях других, в конце концов должна была погибнуть, запутавшись в сетях собственных интриг.
-

CLEOPATRA - постоялец
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: Сб 18.06.2005, 3:04
- Откуда: из Египта
ЭТОТ ВЕЧЕР
этот вечер
ещё не окончен.
если хочешь.
если веришь
в неизбежность
и неслучайность
нашей встречи.
...
не скучай.
**********************************************************
________________МОЛЧИ__________________
Когда не знаешь, что сказать
молчи
не надо злость свою скрывать
лучше молчать,
чем спор вести до хрипоты
в котором прав совсем не ты,
молчи,
чтоб тайна вечной быть могла,
молчи,
чтоб сплетня дальше не пошла
Лучше молчать,
чем не подумав сгоряча
всегда во всем рубить с плеча
Мы то и дело говорим
и знаем что и как сказать,
но в жизни лучше нам самим
уметь молчать!
молчи
бывает ясно все без слов,
молчи,
когда к ответу не готов
лучше молчать,
чем делать вид, что ты знаток
того, что знать никак не мог
молчи
когда сжимает сердце боль
молчи
словами не вернешь любовь
лучше молчать,
чем громко всех винить подряд,
когда ты сам же виноват
молчи,
когда не нужен твой совет,
когда за словом дела нет
лучше молчать.
Не надо лишних слов и фраз-
они решают жизнь подчас!
Мы то и дело говорим
и знаем что и как сказать
но в жизни часто нам самим -
еще важней уметь молчать!!!

этот вечер
ещё не окончен.
если хочешь.
если веришь
в неизбежность
и неслучайность
нашей встречи.
...
не скучай.
**********************************************************
________________МОЛЧИ__________________
Когда не знаешь, что сказать
молчи
не надо злость свою скрывать
лучше молчать,
чем спор вести до хрипоты
в котором прав совсем не ты,
молчи,
чтоб тайна вечной быть могла,
молчи,
чтоб сплетня дальше не пошла
Лучше молчать,
чем не подумав сгоряча
всегда во всем рубить с плеча
Мы то и дело говорим
и знаем что и как сказать,
но в жизни лучше нам самим
уметь молчать!
молчи
бывает ясно все без слов,
молчи,
когда к ответу не готов
лучше молчать,
чем делать вид, что ты знаток
того, что знать никак не мог
молчи
когда сжимает сердце боль
молчи
словами не вернешь любовь
лучше молчать,
чем громко всех винить подряд,
когда ты сам же виноват
молчи,
когда не нужен твой совет,
когда за словом дела нет
лучше молчать.
Не надо лишних слов и фраз-
они решают жизнь подчас!
Мы то и дело говорим
и знаем что и как сказать
но в жизни часто нам самим -
еще важней уметь молчать!!!
-
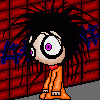
Лимонка~ - постоялец
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Пн 10.10.2005, 15:05
- Откуда: Иркутск~
Кончиком пальчика - нежно, как кошечка,
Сонных ресниц не нарушив покоя,
В ритме дыханья сливаясь с тобою,
Линию счастья вести по ладошке..
Выше к запястью, медленно, трепетно
Тоненькой змейкой к предплечью сильному
Нервно-крохотной дрожью осиновой...
К самому сердцу вдруг локоном пепельным...
..Тысячи мелких мурашек по коже..
Чу! Слабый вздох..Затаюсь на мгновенье...
Сонные чувства в свободном падении..
Милые ямочки щечки встревожили!!
Вверх к подбородку, легко ненавязчиво
тсс!-по губам таким влажным, капризным..
Линия счастья - две линии жизни
Чмокну на ушко:" Люблю тебя, спящего!!"
К сожалению, не знаю кто автор...
Сонных ресниц не нарушив покоя,
В ритме дыханья сливаясь с тобою,
Линию счастья вести по ладошке..
Выше к запястью, медленно, трепетно
Тоненькой змейкой к предплечью сильному
Нервно-крохотной дрожью осиновой...
К самому сердцу вдруг локоном пепельным...
..Тысячи мелких мурашек по коже..
Чу! Слабый вздох..Затаюсь на мгновенье...
Сонные чувства в свободном падении..
Милые ямочки щечки встревожили!!
Вверх к подбородку, легко ненавязчиво
тсс!-по губам таким влажным, капризным..
Линия счастья - две линии жизни
Чмокну на ушко:" Люблю тебя, спящего!!"
К сожалению, не знаю кто автор...
А ты говорил мне: "Моя дорогая принцесса!.." И драил влюбленно хозяйственным мылом корону.
-

PUMA - Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб 17.01.2004, 15:01
- Откуда: Иркутск
Успокоился мир - задремало дитя в колыбели.
Было страшное лето: в нарывах, в крови и дыму.
Наши скорбные души еще не совсем отболели,
Наша тусклая лампа рассеяла пыльную тьму.
Кто-то первый из нас неожиданно понял простое:
Если это война, то не стоит ее воевать.
Этот воздух ночной на дурманящем зелье настоян.
Но бежит колесо, обращенное временем вспять.
Оказалось, земля - удивительно круглая штука,
Мы вернулись назад и опять начинаем с азов,
Мы как будто впервые прислушались к музыке звуков,
Мы узнали цвета, но еще не придумали слов.
Заблудившись в руинах, к нам кошка пришла по карнизу,
Проскользнувший сквозняк томик старых стихов растрепал.
Засвистел самовар и навеки умолк телевизор,
В обжигающей чашке растаял прекрасный кристал.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Все изменилось...
Все изменилось.
Моя одежда. Мой взгляд. Мой стиль.
Моя улица, интерьер
И ценники в кафе-гриль.
Номера троллейбусов
И телефонов знакомых,
Даже старая пластинка Вертинского
Слушается по-другому.
Изменился вкус кофе
И запах любимых духов,
Изменился климат на родине
И смысл старых стихов.
Изменилось время, оно потекло
Почему-то сквозь пальцы.
А прошлое память сшила из лоскутков,
Как детское одеяльце.
И ты не узнал меня
В точке нашего пересечения.
Ты думал, я всегда буду
Соответствовать твоему ощущению
Меня в прошлом.
В тысяча девятьсот забытом году,
Где я под раскрытым зонтиком
Жду тебя на Аничковом мосту
Было страшное лето: в нарывах, в крови и дыму.
Наши скорбные души еще не совсем отболели,
Наша тусклая лампа рассеяла пыльную тьму.
Кто-то первый из нас неожиданно понял простое:
Если это война, то не стоит ее воевать.
Этот воздух ночной на дурманящем зелье настоян.
Но бежит колесо, обращенное временем вспять.
Оказалось, земля - удивительно круглая штука,
Мы вернулись назад и опять начинаем с азов,
Мы как будто впервые прислушались к музыке звуков,
Мы узнали цвета, но еще не придумали слов.
Заблудившись в руинах, к нам кошка пришла по карнизу,
Проскользнувший сквозняк томик старых стихов растрепал.
Засвистел самовар и навеки умолк телевизор,
В обжигающей чашке растаял прекрасный кристал.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Все изменилось...
Все изменилось.
Моя одежда. Мой взгляд. Мой стиль.
Моя улица, интерьер
И ценники в кафе-гриль.
Номера троллейбусов
И телефонов знакомых,
Даже старая пластинка Вертинского
Слушается по-другому.
Изменился вкус кофе
И запах любимых духов,
Изменился климат на родине
И смысл старых стихов.
Изменилось время, оно потекло
Почему-то сквозь пальцы.
А прошлое память сшила из лоскутков,
Как детское одеяльце.
И ты не узнал меня
В точке нашего пересечения.
Ты думал, я всегда буду
Соответствовать твоему ощущению
Меня в прошлом.
В тысяча девятьсот забытом году,
Где я под раскрытым зонтиком
Жду тебя на Аничковом мосту
-

киса(она) - Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб 15.07.2006, 21:33
- Откуда: Иркутск
На зыбкой грани у пределов сна
С приходом сумерек ищу с тобою встречь
Течёт река, неясных грёз полна,
И незаметно уплывает в вечность
Забытого преданья сторона.
По улицам мощёным бродит ветер
На зыбкой грани у пределов сна
С приходом сумерек ищу с тобою встречь
Мой путь печально отрешён и светел
И как река я тоже полон грёз
И тенью скачет жеребёнок-веетер
Он тонконог и трогает до слёз
С приходом сумерек ищу с тобою встречь...
Когда-то я был влюблён...
это мои стихи. честно
С приходом сумерек ищу с тобою встречь
Течёт река, неясных грёз полна,
И незаметно уплывает в вечность
Забытого преданья сторона.
По улицам мощёным бродит ветер
На зыбкой грани у пределов сна
С приходом сумерек ищу с тобою встречь
Мой путь печально отрешён и светел
И как река я тоже полон грёз
И тенью скачет жеребёнок-веетер
Он тонконог и трогает до слёз
С приходом сумерек ищу с тобою встречь...
Когда-то я был влюблён...
это мои стихи. честно
Хотелось бы пролить свет на неизеданное... Над этим и работаю)
-

dexter - "It's because I am"
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: Чт 6.11.2003, 5:03
- Откуда: Иркутск
Так тихо во мне умирает надежда,
Была и вот умирает.
Я жду, я надеюсь,
Но все же она умирает
Я жду может все переменится,
Но все это только мечты
Все меняется,
Все строится заново
Я верю что все наладится,
Что ты… хотя это все ерунда….
******
люди ну разве плохие стихи, ну как не как свои собственные, ну скажите че нить по поводу них, умоляю!!!!!!!!!!!
*******
Стынет чай в зеленой кружки,
Разговоры ни о чем,
В тесной кухонной клетушке
Мы опять сидим втроем,
Взгляды в стороны потупим
Да руками разведем, То ли плачем.
То ли любим,
То ли чай холодный пьем.
******
Была и вот умирает.
Я жду, я надеюсь,
Но все же она умирает
Я жду может все переменится,
Но все это только мечты
Все меняется,
Все строится заново
Я верю что все наладится,
Что ты… хотя это все ерунда….
******
люди ну разве плохие стихи, ну как не как свои собственные, ну скажите че нить по поводу них, умоляю!!!!!!!!!!!
*******
Стынет чай в зеленой кружки,
Разговоры ни о чем,
В тесной кухонной клетушке
Мы опять сидим втроем,
Взгляды в стороны потупим
Да руками разведем, То ли плачем.
То ли любим,
То ли чай холодный пьем.
******
-

киса(она) - Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб 15.07.2006, 21:33
- Откуда: Иркутск
МАРШАК (кого-то перевел)
Когда подумаю, что свет погас
В моих глазах среди пути земного
И что талант, скрывающийся в нас,
Дарован мне напрасно, хоть готова
Душа служить творцу и в должный час
Отдать отчет, не утаив ни слова, -
"Как требовать труда, лишая глаз?" -
Я вопрошаю. Н6 в ответ сурово
Терпенье мне твердит: "Не просит бог
Людских трудов. Он властвует над всеми.
Служа ему, по тысячам дорог
Мы все спешим, влача земное бремя".
Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет.
***
АПОЛИНЕР
МОСТ МИРАБО
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
И уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за горем веселье идет непременно
И в ладони ладонь мы замрем над волнами
И под мост наших рук
Будут плыть перед нами
Равнодушные волны мерцая огнями
Уплывает любовь как текучие воды
Уплывает любовь
Как медлительны годы
Как пылает надежда в минуту невзгоды
Вновь часов и недель повторяется смена
Не вернется любовь
Лишь одно неизменно
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
Перевод Н. Стрижевской
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Николай Агнивцев
АФРИКАНСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Однажды в Африке
Купался жираф в реке.
Там же
Купалась гиппопотамша.
Ясно,
Что она была прекрасна.
Не смотрите на меня так странно:
Хотя гиппопотамши красотой и не славятся,
Но она героиня романа
И должна быть красавицей.
При виде прекрасной гиппопотамши
Жесткое жирафино сердце
Стало мягче самой лучшей замши
И запело любовное скерцо!
Но она,
Гиппопотамова жена,
Ответила ясно и прямо,
Что она замужняя дама
И ради всякого (извините за выражение) сивого мерина
Мужу изменять не намерена.
А если, мол, ему не терпится... жениться,
То, по возможности, скорей
Пусть заведет себе жирафиху-девицу
И целуется с ней!
И будет путь жизни их ярок и светел,
А там, глядишь, и маленькие жирафики появились...
Жираф ничего не ответил,
Плюнул и вылез.
***
ВОТ И ВCЕ
В саду у дяди кардинала,
Пленяя грацией манер,
Маркиза юная играла
В серсо с виконтом Сент--Альмер.
Когда ж, на солнце негодуя,
Темнеть стал звездный горизонт,
С маркизой там в игру другую'
Сыграл блистательный виконт.
И были сладки их объятья,
Пока маркизу не застал
За этим трепетным занятьем
Почтенный дядя кардинал.
В ее глазах сверкнули блестки,
И, поглядевши на серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: "Вот и все!
Прошли года! И вот без счета
Под град свинца - за рядом ряд,
Ликуя, вышли санюлоты
На исторический парад.
- Гвардейцы, что ж вы не идете?"-
И в этот день, слегка бледна,
В последний раз - на эшафоте -
С виконтом встретилась она.
И перед пастью гильотины,
Достав мешок для головы,
Палач с галантностью старинной
Спросил ее: "Готовы ль вы?"
В ее глазах потухли блестки,
И, как тогда в игре в серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: "Вот и все!"
***
СЛОН И МУХА
Однажды некий крупный слон,
Красою мухи поражен,
К той мухе, словно феодал,
Преступной страстью воспылал.
Но муха, быстро рассудив,
Что толстый слон, хоть и красив,
Но все же толст для жениха,
Взяла и скрылась от греха.
Влюбленный слон не пил, не ел.
Влюбленный слон бледнел, худел
И таял, таял по часам. -
Dans chaque malheure cherchez la femme!
И как французский томный граф,
Он умер,.тихо прошептав:
"Не для меня придет весна!"
Так муха.слопала слона.
Отсюда ясно, что слоны
Влюбляться в муху не должны,
Зане на сей предмет для них
Судьба назначила слоних.
НЕМНОЖКО МАНДЕЛЬШТАМА
***
На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и все выше ты
Возводишь изумленный взор?
-- Вверху -- такая темнота,--
Ты скажешь,-- время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.
Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!
***
Не говорите мне о вечности --
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?
Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но -- слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.
И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад --
Ее пенящихся громад,--
О милом и ничтожном думая.
***
Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.
***
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
-- Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем,-- и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки,-- идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса -- не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады -- и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена,--
Не Елена -- другая,-- как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
***
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи --
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече,
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело --
И рыжую солому подожгли.
***
"Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,--
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка --
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают -- что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.
***
В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.
Мелькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах
***
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
"Господи!"- сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...
***
О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
***
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой -- сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая --
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
***
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хм... а вот фамилию этого нашего современника я забыл... стыдно, тем более поэт хороший...
Кто жил однажды — будет жить всегда.
Ничто не завершается с распадом.
Не плоть — одушевлённая вода,
так наши души снова будут рядом.
И минет срок, и будет срок другой.
И взгляд меня толкнёт тихонько в спину.
И прежний голос скажет: “Дорогой...”
А я опять лицо к нему закину.
И ослепит меня последний свет,
и вот уже дыханье отлетело...
Кто жил однажды, знает: смерти нет.
И лишь болит покинутое тело.
Сделай, боже, меня листовёрткой или златкой,
плодовым клещом.
От твоей сигареты обёрткой
или чем-нибудь малым ещё —
чтобы мне в паутине качаться,
поимённо дожди называть,
а в июле в четверг обвенчаться —
с нежной галлицей листья вздувать.
Прилетят пыльнокрылые моли,
станут юбками реять-порхать.
Дрогнет сердце в неясном уколе...
Нет, ещё ничего не слыхать.
Только лист будто ржою захватан.
Только воздух не держит крыло.
И дыханье как будто под ватой,
и опять будто вбок повело...
Когда лицо горит и руки пахнут мёдом,
а день пестрит в глазах как будто сквозь дымарь,
я сам себе кажусь трудягой-пчеловодом,
влюблённым в нежный воск и колыханье марль.
Но всё-таки зачем вибрирует мембрана
и молоточек бьёт, и вздрагивает медь?
Всё пчёлы, всё они, хотя покуда рано
и можно просто спать, не знать и не уметь.
Вовсю гудит июль, исчёрканный графитом —
пунктиром птичьих стай, тире пчелиных трасс.
Он крепко отдаёт кагором и лафитом,
цикорием слегка приправлен через раз.
Пахуч твой мир, творец, и в нём танцуют пчёлы.
А я всего лишь глаз, отонок бытия,
и силюсь заглянуть в мышиные проколы —
туда, где нет меня, вернее — где не я.
Ужо тебе, творец! В девятом отделеньи
я скорбь мою, как хлеб, в поэзию макал.
И плакал контингент в повальном умиленьи,
и доктор за плечом сказал: “Маниакал”.
А в Кащенко цвели высокие деревья.
Больничная трава ходила вдоль стены.
Ещё я помню птиц, их вспорхи, и кочевья.
И ручки на дверях с обратной стороны.
А я читал навзрыд, и милая читала.
И лечащая врач кивала головой.
И тренькал косячок какого-то металла
за стенкой, где стоял полузвериный вой.
Бог судит не за явное — за тайное:
мы в явном утомительно пресны.
Он судит наши помыслы летальные
и наши богохульственные сны.
Вот он до петухов, до голошения,
поблескивая дужками очков,
заносит в книгу наши прегрешения
и сбоку помечает: “Русаков”.
Потом сидит, похрустывая кедами.
Потом бумагу комкает в горсти.
И тихо плачет над моими бедами,
которых и ему не отвести.
Мне спускаются пчёлы на веки,
ходят лапками, веся едва.
Сколько тела в одном человеке,
в этом метре-и-семьдесят два!
Я лежу, прислонился спиною
к жилам трав и древесным хрящам.
Я врастаю в слои перегноя,
ровня лучшим у бога вещам.
На руке моей, всё ещё гладкой,
ходят, плотью светясь, комары.
Лопухи серебристой подкладкой
заслонились от лютой жары.
За Каширой, на бога в обиде,
бродят дальние рокоты гроз.
Но лежу я, совсем их не видя,
как ослепший от пчёл медонос.
Когда пройдут полночные гонцы
и я опять проснусь на белом свете,
заверещат картавые скворцы
и засмеются маленькие дети.
Живите все! Мне мало что дано,
и жалости моей на всех не хватит:
на это крупнозубое зерно,
на тополя во второсортной вате.
А там падут июльские дожди
и тихий август встанет у дороги,
прижав меня к отеческой груди,
и прошуршит над ухом: “Мой убогий...”.
Пусти меня: не видишь — я здоров
и помню в лица все мои разлуки!
Но только что же, как беремя дров,
мне жизнь моя оттягивает руки?
...И коровы, наверно, на небе у господа есть —
там нельзя без коровы, поскольку ребёнки и дети.
Хоть, возможно, скотине отдельное место и честь:
где-нибудь на восьмом, на вполне уважительном свете.
Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи,
чтоб ходить мне за стадом по тучным полям Елисея,
распевать тебе славу, порой облекая в стихи —
не болея, не старясь. И даже почти не лысея.
Когда подумаю, что свет погас
В моих глазах среди пути земного
И что талант, скрывающийся в нас,
Дарован мне напрасно, хоть готова
Душа служить творцу и в должный час
Отдать отчет, не утаив ни слова, -
"Как требовать труда, лишая глаз?" -
Я вопрошаю. Н6 в ответ сурово
Терпенье мне твердит: "Не просит бог
Людских трудов. Он властвует над всеми.
Служа ему, по тысячам дорог
Мы все спешим, влача земное бремя".
Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет.
***
АПОЛИНЕР
МОСТ МИРАБО
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
И уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за горем веселье идет непременно
И в ладони ладонь мы замрем над волнами
И под мост наших рук
Будут плыть перед нами
Равнодушные волны мерцая огнями
Уплывает любовь как текучие воды
Уплывает любовь
Как медлительны годы
Как пылает надежда в минуту невзгоды
Вновь часов и недель повторяется смена
Не вернется любовь
Лишь одно неизменно
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
Перевод Н. Стрижевской
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Николай Агнивцев
АФРИКАНСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Однажды в Африке
Купался жираф в реке.
Там же
Купалась гиппопотамша.
Ясно,
Что она была прекрасна.
Не смотрите на меня так странно:
Хотя гиппопотамши красотой и не славятся,
Но она героиня романа
И должна быть красавицей.
При виде прекрасной гиппопотамши
Жесткое жирафино сердце
Стало мягче самой лучшей замши
И запело любовное скерцо!
Но она,
Гиппопотамова жена,
Ответила ясно и прямо,
Что она замужняя дама
И ради всякого (извините за выражение) сивого мерина
Мужу изменять не намерена.
А если, мол, ему не терпится... жениться,
То, по возможности, скорей
Пусть заведет себе жирафиху-девицу
И целуется с ней!
И будет путь жизни их ярок и светел,
А там, глядишь, и маленькие жирафики появились...
Жираф ничего не ответил,
Плюнул и вылез.
***
ВОТ И ВCЕ
В саду у дяди кардинала,
Пленяя грацией манер,
Маркиза юная играла
В серсо с виконтом Сент--Альмер.
Когда ж, на солнце негодуя,
Темнеть стал звездный горизонт,
С маркизой там в игру другую'
Сыграл блистательный виконт.
И были сладки их объятья,
Пока маркизу не застал
За этим трепетным занятьем
Почтенный дядя кардинал.
В ее глазах сверкнули блестки,
И, поглядевши на серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: "Вот и все!
Прошли года! И вот без счета
Под град свинца - за рядом ряд,
Ликуя, вышли санюлоты
На исторический парад.
- Гвардейцы, что ж вы не идете?"-
И в этот день, слегка бледна,
В последний раз - на эшафоте -
С виконтом встретилась она.
И перед пастью гильотины,
Достав мешок для головы,
Палач с галантностью старинной
Спросил ее: "Готовы ль вы?"
В ее глазах потухли блестки,
И, как тогда в игре в серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: "Вот и все!"
***
СЛОН И МУХА
Однажды некий крупный слон,
Красою мухи поражен,
К той мухе, словно феодал,
Преступной страстью воспылал.
Но муха, быстро рассудив,
Что толстый слон, хоть и красив,
Но все же толст для жениха,
Взяла и скрылась от греха.
Влюбленный слон не пил, не ел.
Влюбленный слон бледнел, худел
И таял, таял по часам. -
Dans chaque malheure cherchez la femme!
И как французский томный граф,
Он умер,.тихо прошептав:
"Не для меня придет весна!"
Так муха.слопала слона.
Отсюда ясно, что слоны
Влюбляться в муху не должны,
Зане на сей предмет для них
Судьба назначила слоних.
НЕМНОЖКО МАНДЕЛЬШТАМА
***
На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и все выше ты
Возводишь изумленный взор?
-- Вверху -- такая темнота,--
Ты скажешь,-- время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.
Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!
***
Не говорите мне о вечности --
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?
Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но -- слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.
И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад --
Ее пенящихся громад,--
О милом и ничтожном думая.
***
Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.
***
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
-- Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем,-- и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки,-- идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса -- не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады -- и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена,--
Не Елена -- другая,-- как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
***
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи --
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече,
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело --
И рыжую солому подожгли.
***
"Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,--
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка --
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают -- что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.
***
В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.
Мелькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах
***
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
"Господи!"- сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...
***
О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
***
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой -- сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая --
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
***
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хм... а вот фамилию этого нашего современника я забыл... стыдно, тем более поэт хороший...
Кто жил однажды — будет жить всегда.
Ничто не завершается с распадом.
Не плоть — одушевлённая вода,
так наши души снова будут рядом.
И минет срок, и будет срок другой.
И взгляд меня толкнёт тихонько в спину.
И прежний голос скажет: “Дорогой...”
А я опять лицо к нему закину.
И ослепит меня последний свет,
и вот уже дыханье отлетело...
Кто жил однажды, знает: смерти нет.
И лишь болит покинутое тело.
Сделай, боже, меня листовёрткой или златкой,
плодовым клещом.
От твоей сигареты обёрткой
или чем-нибудь малым ещё —
чтобы мне в паутине качаться,
поимённо дожди называть,
а в июле в четверг обвенчаться —
с нежной галлицей листья вздувать.
Прилетят пыльнокрылые моли,
станут юбками реять-порхать.
Дрогнет сердце в неясном уколе...
Нет, ещё ничего не слыхать.
Только лист будто ржою захватан.
Только воздух не держит крыло.
И дыханье как будто под ватой,
и опять будто вбок повело...
Когда лицо горит и руки пахнут мёдом,
а день пестрит в глазах как будто сквозь дымарь,
я сам себе кажусь трудягой-пчеловодом,
влюблённым в нежный воск и колыханье марль.
Но всё-таки зачем вибрирует мембрана
и молоточек бьёт, и вздрагивает медь?
Всё пчёлы, всё они, хотя покуда рано
и можно просто спать, не знать и не уметь.
Вовсю гудит июль, исчёрканный графитом —
пунктиром птичьих стай, тире пчелиных трасс.
Он крепко отдаёт кагором и лафитом,
цикорием слегка приправлен через раз.
Пахуч твой мир, творец, и в нём танцуют пчёлы.
А я всего лишь глаз, отонок бытия,
и силюсь заглянуть в мышиные проколы —
туда, где нет меня, вернее — где не я.
Ужо тебе, творец! В девятом отделеньи
я скорбь мою, как хлеб, в поэзию макал.
И плакал контингент в повальном умиленьи,
и доктор за плечом сказал: “Маниакал”.
А в Кащенко цвели высокие деревья.
Больничная трава ходила вдоль стены.
Ещё я помню птиц, их вспорхи, и кочевья.
И ручки на дверях с обратной стороны.
А я читал навзрыд, и милая читала.
И лечащая врач кивала головой.
И тренькал косячок какого-то металла
за стенкой, где стоял полузвериный вой.
Бог судит не за явное — за тайное:
мы в явном утомительно пресны.
Он судит наши помыслы летальные
и наши богохульственные сны.
Вот он до петухов, до голошения,
поблескивая дужками очков,
заносит в книгу наши прегрешения
и сбоку помечает: “Русаков”.
Потом сидит, похрустывая кедами.
Потом бумагу комкает в горсти.
И тихо плачет над моими бедами,
которых и ему не отвести.
Мне спускаются пчёлы на веки,
ходят лапками, веся едва.
Сколько тела в одном человеке,
в этом метре-и-семьдесят два!
Я лежу, прислонился спиною
к жилам трав и древесным хрящам.
Я врастаю в слои перегноя,
ровня лучшим у бога вещам.
На руке моей, всё ещё гладкой,
ходят, плотью светясь, комары.
Лопухи серебристой подкладкой
заслонились от лютой жары.
За Каширой, на бога в обиде,
бродят дальние рокоты гроз.
Но лежу я, совсем их не видя,
как ослепший от пчёл медонос.
Когда пройдут полночные гонцы
и я опять проснусь на белом свете,
заверещат картавые скворцы
и засмеются маленькие дети.
Живите все! Мне мало что дано,
и жалости моей на всех не хватит:
на это крупнозубое зерно,
на тополя во второсортной вате.
А там падут июльские дожди
и тихий август встанет у дороги,
прижав меня к отеческой груди,
и прошуршит над ухом: “Мой убогий...”.
Пусти меня: не видишь — я здоров
и помню в лица все мои разлуки!
Но только что же, как беремя дров,
мне жизнь моя оттягивает руки?
...И коровы, наверно, на небе у господа есть —
там нельзя без коровы, поскольку ребёнки и дети.
Хоть, возможно, скотине отдельное место и честь:
где-нибудь на восьмом, на вполне уважительном свете.
Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи,
чтоб ходить мне за стадом по тучным полям Елисея,
распевать тебе славу, порой облекая в стихи —
не болея, не старясь. И даже почти не лысея.
Некоторые вещи непонятны нам не от того, что наши понятия слабы, но от того, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
-

Diego - постоялец
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Вт 13.01.2004, 21:00
- Откуда: Иркутск
Когда я стану знаменит,
Куплю железную машину,
Шофёра Гиви заведу,
Солидного, как паровоз.
Он, если надо заменить,
То на ходу заменит шину,
А если надо – на ходу
Даст прикурить, как виртуоз.
Люблю проехаться верхом
В машине типа лимузина,
Ведь он не просто лимузин,
А лимузин-кабриолет,
И просыпается тайком
Во мне дух пылкого грузина,
И этот пламенный грузин
Знать не желает слова “нет”.
Пусть говорят, что лимузин
Не может быть кабриолетом,
Это у вас не может быть,
А у грузинов их полно!
А если кто-то возразить
Захочет с Гиви нам на это,
Конечно, может возразить –
Нам с Гиви это всё равно.
Когда-нибудь я, может быть,
Куплю жене стальную брошку
Работы сына Фаберже,
А может, Фаберже-отца,
Я даже, может, брошу пить,
Хотя, скорей всего не брошу.
А если даже брошу пить,
То, как грузин, не до конца.
И костромские чуваки,
И камер-бюргеры в Потсдаме
Передо мною лебезят,
Завидя мой кабриолет.
И даже в лужах червяки
Виляют лысыми хвостами –
Спасибо вам, мои друзья,
Я очень тронут и задет.
И тот, кто раньше изменял,
Придёт ко мне сказать “простите”.
Конечно, я его прощу,
Но Гиви точно не простит,
Так что давайте же меня
Вы неизвестного любите,
Чтоб не случилось бы чего,
Когда я стану знаменит.
(с)Михаил Кочетков
Куплю железную машину,
Шофёра Гиви заведу,
Солидного, как паровоз.
Он, если надо заменить,
То на ходу заменит шину,
А если надо – на ходу
Даст прикурить, как виртуоз.
Люблю проехаться верхом
В машине типа лимузина,
Ведь он не просто лимузин,
А лимузин-кабриолет,
И просыпается тайком
Во мне дух пылкого грузина,
И этот пламенный грузин
Знать не желает слова “нет”.
Пусть говорят, что лимузин
Не может быть кабриолетом,
Это у вас не может быть,
А у грузинов их полно!
А если кто-то возразить
Захочет с Гиви нам на это,
Конечно, может возразить –
Нам с Гиви это всё равно.
Когда-нибудь я, может быть,
Куплю жене стальную брошку
Работы сына Фаберже,
А может, Фаберже-отца,
Я даже, может, брошу пить,
Хотя, скорей всего не брошу.
А если даже брошу пить,
То, как грузин, не до конца.
И костромские чуваки,
И камер-бюргеры в Потсдаме
Передо мною лебезят,
Завидя мой кабриолет.
И даже в лужах червяки
Виляют лысыми хвостами –
Спасибо вам, мои друзья,
Я очень тронут и задет.
И тот, кто раньше изменял,
Придёт ко мне сказать “простите”.
Конечно, я его прощу,
Но Гиви точно не простит,
Так что давайте же меня
Вы неизвестного любите,
Чтоб не случилось бы чего,
Когда я стану знаменит.
(с)Михаил Кочетков


И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.
-
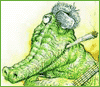
B.G.C. - Мудрый Ящер благородных кровей
- Сообщения: 2721
- Зарегистрирован: Пт 19.12.2003, 20:10
- Откуда: Irkutsk, Russia
Как хорошо, что вспыхнут снова эти,
Цветы в полях, под небом голубым,
Как хорошо, что ты живешь на свете
И красишь мир присутствием своим.
Как хорошо, что в общем внешнем шуме,
Милей всего твой голос голубой,
Что умирая, я еще не умер
И перед смертью встретился с тобой.
С Есенин
Цветы в полях, под небом голубым,
Как хорошо, что ты живешь на свете
И красишь мир присутствием своим.
Как хорошо, что в общем внешнем шуме,
Милей всего твой голос голубой,
Что умирая, я еще не умер
И перед смертью встретился с тобой.
С Есенин
-

BUD - постоялец
- Сообщения: 561
- Зарегистрирован: Вт 23.03.2004, 18:41
- Откуда: Иркутск
Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.
Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.
Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.
И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.
И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвесть.
Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.
Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.
Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.
1923 С Есенин (+А. Новиков, - на музыку)
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.
Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.
Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.
И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.
И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвесть.
Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.
Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.
Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.
1923 С Есенин (+А. Новиков, - на музыку)
Злой железячник.


-

Phoenix - постоялец
- Сообщения: 2234
- Зарегистрирован: Вт 10.01.2006, 5:29
- Откуда: Новосибирск/Иркутск
Твои глаза
Не страшна мне смерть,
Не страшна гроза,
Я сгорю в аду -
За твои глаза.
Не боюсь огня,
Не смертелен яд,
Я продам себя -
За твой нежный взгляд...
Рядом нет тебя
И течет слеза,
Мне б еще хоть раз
Посмотреть в глаза...
Баженова Ксения
У человека голова находится сверху, чтобы он не ходил вверх ногами.
-

defochk_a - постоялец
- Сообщения: 362
- Зарегистрирован: Сб 21.05.2005, 3:44
- Откуда: сами мы не местные
Самое мною любимое стихотворение Ф. Г. Лорка "Дождь"...
***
Есть в дожде откровенье - потаенная нежность.
И старинная сладость примиренной дремоты,
Просыпается с ним безыскусная песня,
И трепещет душа усыпленной природы.
Это землю лобзают поцелуем лазурным,
Первобытное снова оживает поверье.
Сочетаются Небо и Земля, как впервые,
И великая кротость разлита в предвечерье
Роковое томленье по загубленной жизни,
Неотступную думу: "Все напрасно, все поздно!"
Или призрак тревожный невозможности утра
И страдание плоти, где таится угроза.
В этом сером звучанье пробуждается нежность,
Небо нашего сердца просияет глубоко,
Но надежды невольно обращаются в скорби,
Созерцая погибель этих капель на стеклах.
Тишине ты лепечешь первобытную песню
И листве повторяешь золотое преданье,
А пустынное сердце постигает их горько
В безысходной и черной пентаграмме страданья.
В сердце те же печали, что в дожде просветленном,
Примиренная скорбь о несбыточном часе.
Для меня в небесах возникает созвездье,
Но мешает мне сердце созерцать это счастье.
***
С. Сурганова "Птицы"
Что вас гонит из города в город,
кто зовет вас в небесную даль?
Певчие птицы зерна с ладоней
с детства, увы, не приучены брать.
Вьюга за окнами, дождь - не преграда.
Есть в крыльях сила, опять не уснуть.
Вас не влечет ни хвала, ни награда.
Певчие птицы, что гонит вас в путь?
В чердачной пыли заброшенных замков
уютней, чем в золоте клеточных спиц.
И если пространства,
то не меньше, чем небо.
И если свободы, то не на двоих.
Что вас гонит из города в город:
восторженность яркой, но все же толпы,
народы, наряды, обычаи, говор,
непостоянство и просто коты?
Так улетайте ж в ночное созвучье
окон зашторенных и фонарей,
в роскошь безлюдных и вымытых улиц,
в строгость каналов и площадей.
Певчие птицы, так радостно-больно
мне наблюдать ваш свободный полет.
Но этот полет так похож на скитанье
от "верю" к "не верю" и наоборот.
***
Есть в дожде откровенье - потаенная нежность.
И старинная сладость примиренной дремоты,
Просыпается с ним безыскусная песня,
И трепещет душа усыпленной природы.
Это землю лобзают поцелуем лазурным,
Первобытное снова оживает поверье.
Сочетаются Небо и Земля, как впервые,
И великая кротость разлита в предвечерье
Роковое томленье по загубленной жизни,
Неотступную думу: "Все напрасно, все поздно!"
Или призрак тревожный невозможности утра
И страдание плоти, где таится угроза.
В этом сером звучанье пробуждается нежность,
Небо нашего сердца просияет глубоко,
Но надежды невольно обращаются в скорби,
Созерцая погибель этих капель на стеклах.
Тишине ты лепечешь первобытную песню
И листве повторяешь золотое преданье,
А пустынное сердце постигает их горько
В безысходной и черной пентаграмме страданья.
В сердце те же печали, что в дожде просветленном,
Примиренная скорбь о несбыточном часе.
Для меня в небесах возникает созвездье,
Но мешает мне сердце созерцать это счастье.
***
С. Сурганова "Птицы"
Что вас гонит из города в город,
кто зовет вас в небесную даль?
Певчие птицы зерна с ладоней
с детства, увы, не приучены брать.
Вьюга за окнами, дождь - не преграда.
Есть в крыльях сила, опять не уснуть.
Вас не влечет ни хвала, ни награда.
Певчие птицы, что гонит вас в путь?
В чердачной пыли заброшенных замков
уютней, чем в золоте клеточных спиц.
И если пространства,
то не меньше, чем небо.
И если свободы, то не на двоих.
Что вас гонит из города в город:
восторженность яркой, но все же толпы,
народы, наряды, обычаи, говор,
непостоянство и просто коты?
Так улетайте ж в ночное созвучье
окон зашторенных и фонарей,
в роскошь безлюдных и вымытых улиц,
в строгость каналов и площадей.
Певчие птицы, так радостно-больно
мне наблюдать ваш свободный полет.
Но этот полет так похож на скитанье
от "верю" к "не верю" и наоборот.
Если вы со мной не согласны, это значит, что вы меня плохо слушали...
- Геката
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс 3.09.2006, 1:06
-

спонсор


